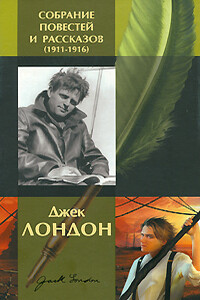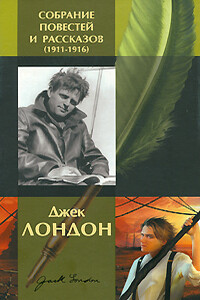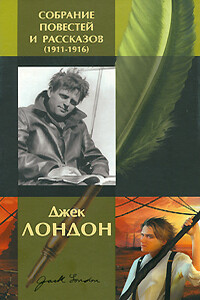Ада, или Эротиада - страница 79
— Как это до боли напоминает голубянки (petits blues[180]), которые присылала мне Аква! — со вздохом заметил Демон (автоматически вскрыв послание). — Скажи, не знаком ли я с сей нежной Окрестностью? Ты можешь сколько угодно изображать недоумение, но это явно не обмен медицинской информацией.
Воздев глаза к плафону, расписанному в стиле Буше, в столовой, где они завтракали, и качая головой в шутливом восхищении, Ван удовлетворил проницательное любопытство Демона. Да, он угадал. Вану необходимо тотчас отправиться в Ченетипо (анаграмма слова «почтение», ясно?), в некое селение, если наоборот, то в Лениесе (ясно?) навестить юную полоумную художницу по имени то ли Дорис, то ли Одрис, которая рисует исключительно лошадок и, да-да, сластолюбчиков.
Ван поселился в номере под вымышленным именем (Буше) в единственной гостинице на всю Малагарь, убогую деревушку на берегу Ладоры в двадцати милях от Ардиса. Всю ночь он провел в схватке со знаменитым комаром или его сородичем, возлюбившим его еще больше, чем ардисский кровопийца. Туалет на лестничной площадке представлял собой черную дыру со следами фекальных взрывов между двумя гигантскими пятами, на которых надлежало, скорчившись, примоститься. 25 июля в 7 утра он позвонил в Ардис-Холл с малагарьской почты и напал на Бута, который в тот момент напал на Бланш и, не разобрав, принял голос Вана за голос дворецкого.
— Шли бы вы, папаша, — буркнул Бут в дорофон при кровати. — Занят я!
— Бланш позови, идиот! — рявкнул Ван.
— Oh, pardon! Un moment, Monsieur![181]
В трубке прозвучал хлопок откупориваемой бутылки. (Ну и ну, рейнвейн в семь утра!), и трубку подхватила Бланш, но едва Ван приготовился излагать хитроумно составленное послание для Ады, как Ада, которая всю ночь провела qui vive[182], сама взяла трубку в детской, где дрожащим журчанием отозвался самый совершенный в доме аппарат под немым барометром.
— Лесная Развилка через сорок пять! Слова плюются, прости!
— Башня! — прозвучал ее милый, звонкий голос, как в наушниках «Вас понял!» пилота из голубой выси.
Взяв напрокат мотоцикл — допотопный агрегат с сиденьем, обтянутым бильярдным сукном, и претенциозными ручками из искусственного перламутра, — Ван покатил по узкой «лесной аллее», подскакивая на выступавших корнях. Первое, что он заметил — звездочкой сверкнувший брошенный ею велосипед: она стояла рядом, руки в бока, бледный, чернокудрый ангел в махровом халате и домашних шлепанцах, оцепенело глядя куда-то в сторону… Неся ее на руках в ближайшую чащу, он чувствовал, что она вся горит, но осознал, что и впрямь больна, лишь когда после двух исполненных страсти конвульсий Ада поднялась, вся в крошечных рыжих муравьях, шатаясь, едва не теряя сознание, бормоча что-то про цыган с цигарками.
То было грубоживотное, но упоительное свидание. Он даже не помнит…
(Не страдай, и я не помню. Ада.)
…ни единого произнесенного ими тогда слова, ни единого вопроса или ответа; он помчал ее домой, подъехав, насколько смел, поближе (ее велосипед пихнул в заросли папоротника) — и когда в тот вечер позвонил Бланш, та трагическим шепотом сообщила, что мол, у Mademoiselle une belle pneumonie, mon pauvre Monsieur[183].
Через три дня Аде стало гораздо лучше, однако Вану уже надо было возвращаться в Ман, чтобы на том же самом судне снова отплыть в Англию — и там предпринять цирковое турне с теми, кого подвести не мог.
Его провожал отец. Демон выкрасил волосы в жгуче-черный цвет. Алмазный перстень на пальце сверкал, как Кавказский хребет. Длинные, черные, в синеватую крапинку, крылья развевались за спиной, подрагивая на ветру. Люди оглядывались (people turned to look). Его нынешняя Тамара, сама сурьма, горя багрянцем Казбека, во фламинговом боа, — никак не могла решить, что ненаглядному демону приятней: ее ли нытье, приправленное равнодушием к красавцу сынку, или признание ею синебородского мужского начала, угадывавшегося в мрачном Ване, с трудом переносящем едкий запах ее кавказских духов