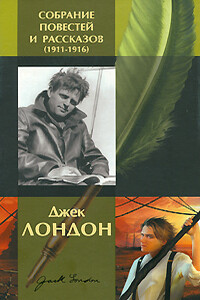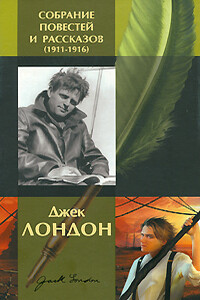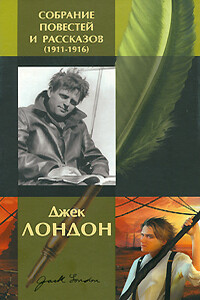не способна выучить!») — отлично, даю тебе ровно час, чтобы ты выучила вот эти восемь строчек наизусть. Уж мы-то с тобой (переходит на шепот) сумеем доказать твоей злюке и задаваке сестрице, что глупышка Люсетточка тоже кое на что способна. И если (легонько проходясь губами по ее коротко стриженным волосам), если ты, солнышко мое, сможешь прочесть стишок без запинки, чем положишь Аду на обе лопатки, — только чур не путать «тут-там» или «так-как»! Старайся быть внимательной! — словом, если справишься, я подарю тебе эту драгоценную книжку насовсем. («Дай ей лучше то, где он подбирает перо и воочию видит самого Павлина, — буркнула Ада, — оно потруднее») — Нет-нет, мы с Люсетт уже выбрали вот эту маленькую балладу. А теперь иди-ка сюда (открывает дверь) и не выходи, пока я тебя не позову. Иначе не видать тебе награды, о чем ты будешь жалеть до конца своей жизни.
— Ах, Ван, какой ты милый! — проговорила Люсетт, медленно проходя в свою комнату и не сводя восторженных глаз с Ванова автографа, запечатленного на форзаце его порывистым росчерком, а также с его восхитительных рисунков тушью — черной астры, получившейся из кляксы, дорической колонны (скрывающей собой что-то куда как непристойное), нежного, лишенного листвы деревца (видного из окна классной комнаты), нескольких ребячьих профилей (Кот-Чешир, Бык-Зог, Румянчик и собственный профиль Вана, похожий на Адин).
Ван поспешил вслед за Адой на чердак. В тот момент он был чрезвычайно горд своей находчивостью. Через семнадцать лет с пророческим содроганием ему придется вспомнить этот эпизод, когда он станет читать последнюю записку Люсетт, посланную ею 2 июня 1901 года из Парижа ему в Кингстон, в которой она «просто так» сообщала:
«Я многие годы хранила — должно быть, она и сейчас в детской в Ардисе — ту антологию, что ты когда-то мне подарил; а маленькое стихотворение, которое ты заставил меня выучить наизусть, и поныне содержится слово в слово в тайнике моей помутившейся памяти, где упаковщики топчут мои вещи, опрокидывают корзины и слышатся голоса: пора в путь, в путь. Отыщи его в стихах Брауна и вновь оцени способности восьмилетней девчушки, как оценили вы со счастливой Адой в тот далекий день, который где-то там позвякивает на полке пустой склянкой из-под лекарства. Теперь прочти вот это:
„Тут было поле, — бросил гид, —
То место было лесом,
Тут на колени опустился Пит,
Вон там была Принцесса“.
„Ну нет! — приезжий возразил,
Как взгляд безжизнен твой!
Луг сгинул, лес свое отжил,
Она же здесь, со мной!“»
Вана огорчало, что теперь Письмомания[149] (старая шутка Ванвителли!) была во всем мире запрещена, даже само название в семьях самой-самой высокой знати (в британском и бразильском понимании), к которой и Вины, и Дурмановы по рождению принадлежали, стало восприниматься как нечто непристойное, и образовалась уж замена усовершенствованными суррогатами, воплощенными исключительно в таких наиважнейших «предметах обихода», как телефон, автомобиль — что еще? — и еще ряде всяких новейших приспособлений, о которых только и мечтает простонародье, пялясь, разинув рот и дыша часто-часто, как гончая (шутка ли, такую длинную фразу вынести!), а магнитофоны, эти безделицы, любимые игрушки предков Вана и Ады (князь Земский поставил по магнитофону у кроватки каждой школьницы своего гарема), уже более не производятся, может, только в Татарии, где их тайно выпускают в новом виде — «minirechi» («спикоминареты»). Если бы бытующие правила приличия и хорошего тона позволили нашим эрудитам-любовникам, стукнув хорошенько, привести в движение таинственный механизм, который однажды разыскали на чердаке, они могли бы записать на пленку (а также через восемь десятков лет прослушать) арии в исполнении Джорджо Ванвителли, равно как и беседы Вана Вина со своей возлюбленной. К примеру, вот что они могли бы услышать сегодня — испытав и удовольствие, и смущение, и печаль, и удивление.
(Голос рассказчика: в один прекрасный летний день, вскоре после начала поры поцелуев в их чересчур раннем и во многом роковом романе, Ван с Адой направлялись в Ружейный павильон,