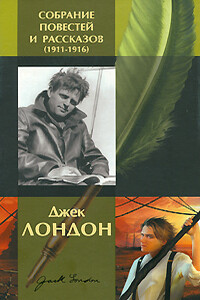Ада, или Эротиада - страница 223
— Пригорок над верхней губой мне кажется до неприличия голым! (Взвывая от боли, он сбрил усы в ее присутствии.) И еще я все время непроизвольно втягиваю живот!
— Не надо, ты мне милей с легким брюшком — пусть тебя будет больше! Это материнские гены. Ведь Демон с годами все более и более спадал с тела. На маминых похоронах, помнится, в нем было что-то поразительно «кихотское». Как все это странно. Траур на нем был синий. Однорукий сын Д'Онского обнял Демона единственной рукой и оба плакали, comme des fontaines[512]. Потом некто в рясе, похожий на стастиста на съемках цветного жития бога Вишну, пробубнил невнятно заупокойную. Потом она вместе с дымом вознеслась на небеса. И Демон, рыдая, сказал мне: «Уж я-то бедных червячков не подведу!» А буквально через пару часов после того, как он свое обещание нарушил, к нам на ранчо заявились неожиданные гости — сказочно грациозная куколка лет восьми, под черной вуалью, при ней дуэнья, тоже в черном, а также пара телохранителей. Старая карга затребовала фантастическую сумму — которую, по ее словам, Демон не успел заплатить за «прострел плевы», — после чего я велела самому могучему из наших молодцев выбросить вон всю (the entire) компанию.
— Непостижимо, — заметил Ван, — но они становились все юней и юней — я не про могучих молчунов-молодцев, я про его девчушек. У Розалинды, его старой пассии, была десятилетняя племяшка, чистый цыпленок. Еще немного, и он стал бы их таскать прямо из инкубатора!
— Никогда ты не любил отца своего! — грустно сказала Ада.
— Да нет же, любил и теперь люблю — нежно, трепетно, понимающе, ведь в конце-то концов вся эта вторичная поэзия плоти мне самому вовсе не чужда. Но нам обоим, я имею в виду тебя и меня, важно то, что отец похоронен в тот же день, что и дядюшка Дэн.
— Понимаю, понимаю! Как прискорбно! Но что с этого? Быть может, не стоило говорить тебе, но его визиты в Агавию становились все реже и короче раз от раза. Да и слушать их общение с Андреем было прискорбно. Ведь Андрей п'a pas le verbe facile[513], хотя всегда высоко ценил — как следует, впрочем, не понимая — Демоново буйство фантазии и вкус к необычному и частенько восклицал, по-русски — тц-тц — цокая языком и головой покачивая, — выражая так свое одобрение: «Каков балагур (wag) вы в самом деле!» Но однажды как-то Демон объявил мне, что не приедет больше никогда, если снова от бедного Андрея услышит ту же шуточку («Ну и балагур же вы, Дементий Лабиринтович!») или от Дороти, этой l'impayable («бесценный образец наглости и глупости») Дороти, — что та думает по поводу моего похода по горам всего лишь с пастухом Майо в качестве защиты от львов.
— Возможно ль узнать об этом поподробней? — спросил Ван.
— Какие подробности! Все это происходило в момент, когда я прекратила общаться и с мужем, и с золовкой, и потому никак повлиять на ситуацию не могла. В общем, Демон больше не приезжал и, когда оказался всего в двухстах милях от нас, просто из какого-то игорного дома послал письмо, то милое, милое твое письмо про Люсетт и про картину со мной.
— Хотелось бы узнать и подробности супружеской жизни — как то: частота совокуплений, ласкательные клички потайных бородавок, любимые ароматы…
— Платок моментально (handkerchief quick)! Левая ноздря у тебя забита нефритовой жижей! — сказала Ада и тут же отвлекла его внимание круглой, обведенной красным табличкой при газоне с надписью «Chiens interdits!»[514] под какой-то немыслимой черной дворняжкой с белой ленточкой вокруг шеи. Это что, подняв брови, сказала Ада, швейцарские городские власти запрещают горным терьерам скрещиваться с пуделями?
Средь скромного цветения ярче всего выделялись последние бабочки 1905 года — медлительные «павлиний глаз» и «красная великолепная», вот «королева Испании» и вот дымчато-желтая. Прокатился трамвай слева, вблизи от променада, где они, присев на скамье, украдкой поцеловались, едва стих визг трамвайных колес. Рельсы красиво отсвечивали на солнце кобальтовым блеском — отражая полуденный свет полированностью металла.