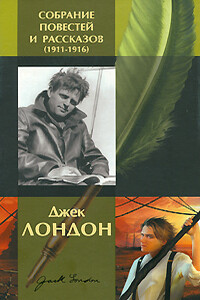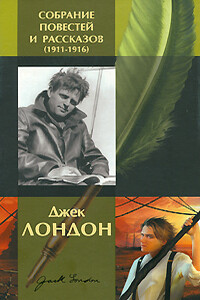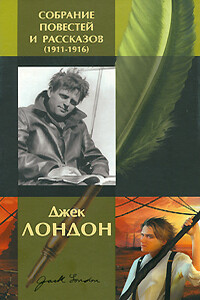Они пили сладкий крепкий кофе по-турецки, и он украдкой бросил взгляд на ручные часы, понять… что? Долго ли сможет выносить эти муки воздержания? Скоро ль хоть что-то грядет, например, начнутся состязания по бальным танцам? Каков ее возраст? (Люцинде Вин едва от роду пять часов, если повернуть вспять человеческий «ток времени».)
Она была так трогательно-нежна, что, когда они направились к выходу из бара, Ван не смог удержаться (ибо чувственность — лучший питательный раствор для роковой ошибки), чтоб не погладить атласное юное плечико, чтоб на мгновение, счастливейшее в ее жизни, канула идеальная выпуклость в чашечку-бильбоке его ладони. Потом она шла впереди, ощутимо, как победительница конкурса на лучшую осанку, неся на себе его взгляд. Ему в ее платье виделось что-то страусиное (если существуют страусы с курчаво-рыжим оперением), оно подчеркивало свободу шага, длину ноги в ниноновом чулке. Говоря объективно, была она гораздо шикарней своей «вагинальной» сестры. Они проходили площадки трапа, где русские матросы (провожавшие одобрительными взглядами красивую пару, говорившую на их несравненном языке) спешно натягивали бархатные канаты, они гуляли по той или иной палубе, и Люсетт казалась ему гуттаперчевой девочкой, которой моря и шквалы нипочем. С неудовольствием истинного джентльмена замечал он, что ее вздернутый подбородок, и черные перья, и свободная походка приковывали к себе не только невинно-голубоглазые взоры, но и откровенно похотливые взгляды иных пассажиров. Ван объявил во всеуслышанье, что смажет по физиономии очередного наглеца, и непроизвольно попятился, смешно потрясая кулаками, вмазавшись в свернутый шезлонг (в миниатюре сам изобразив откат во времени), заставив Люсетт захлебнуться смехом. Теперь, развеселившись, любуясь его подшампаненной галантностью, Люсетт уволокла Вана подальше от воображаемых своих обожателей к лифту.
Без явного интереса обозревали они в застекленной витрине товары для праздной публики. Люсетт фыркнула, указав на расшитый парчой купальный костюм. Присутствие здесь жокейского стека и мотыги несколько озадачило Вана. Экземпляров пять-шесть «Зальцмана» в глянцевой обложке были красиво разложены между фотографией привлекательного, задумчивого, ныне полностью забытого автора и букетом бессмертников в вазе стиля «минго-бинго».
Ван схватился за красный канат, они вошли в салон.
— Кого она напоминает? — спросила Люсетт. — «En laid et en lard?»[472]
— Не понял, — соврал Ван. — Кого?
— Не важно! — отмахнулась она. — Сегодня ты мой! Мой, мой, мой!
То была цитата из Киплинга — та самая фраза, которую Ада адресовала Даку.
Ван бросил взгляд вокруг в поисках спасительной соломинки — проканителить прокрустову неизбежность.
— Умоляю! — сказала Люсетт. — Мне надоело бродить по кораблю. Меня качает, меня знобит, я ненавижу шторм, пошли скорей в постельку!
— Эй, взгляни-ка! — вскричал Ван, тыча пальцем в афишу. — Вот показывают кино под названием «Последний загул Дон-Гуана». Допрокатный просмотр и только для взрослых. Каков «Тобакофф»!
— Наверняка скучища нон-денатурат! — отозвалась Люси (школа при Уссэ, 1890), но Ван уж раздвинул входную портьеру.
Они вошли посреди вводной короткометражки о круизе в Гренландию — всю в грозных, приукрашенных цветным кино морях. Путешествие это было крайне не к месту, так как их «Тобакофф» и не помышлял заходить в Годгаген; более того, кинозал качало в противофазе волнениям кобальтово-изумрудных экранных стихий. Неудивительно, что место оказалось, по замечанию Люсетт, эмптовато[473], и она снова напомнила, как Робинсоны накануне спасли ей жизнь, вручив полный пенальчик пилюль «За упокой».
— Дать одну? Одна таблетка в день keeps «no shah» away[474]. Шутка. Можешь разжевать, сладкая!
— Восхитительное названьице! Нет уж, спасибо, сладкая моя! Да их у тебя всего пять и осталось.
— Не волнуйся, у меня все рассчитано. Уже меньше пяти дней остается.
— На самом деле больше, но не в этом суть. Наши параметры времени бессмысленны; наиточнейшие часы — смех, да и только. Погоди чуть-чуть, все узнаешь про это из книги.