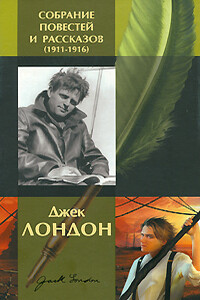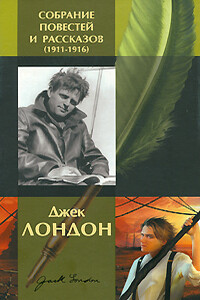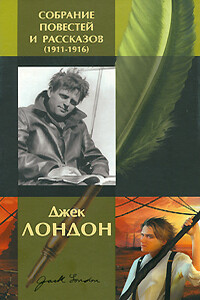Тут Ван, бесконечно водивший взад-вперед пальцем по безгласному, но успокаивающе гладкому краю столика красного дерева, внезапно с ужасом услыхал рыдания, сотрясшие Демона с головы до ног, и вот уж слезы потоком хлынули по его впалым, загорелым щекам. В любительском лицедействе в день рождения Вана пятнадцать лет тому назад Демон, выступая в роли Бориса Годунова, разразился странными, пугающими, угольно-черными слезами, а потом покатился по ступенькам нелепого трона, в смертельном порыве неодолимо притягиваясь к земле.>{140} Может, эти темные струйки из нынешнего спектакля от черной краски у глаз, на ресницах, веках, бровях? Шут, игрок… бледная роковая дева в другой известной мелодраме… В этой Ван сунул исполнителю чистый носовой платок взамен его грязной тряпки. Собственное хладное спокойствие нисколько не удивляло Вана. Сама нелепость совместного с отцом плача блокировала привычное извержение чувств.
Демон вернул себе прежний вид (если не моложавость) и сказал:
— Я верю в тебя и твой здравый смысл. Ты не должен позволять старому развратнику отречься от собственного сына. Если ты ее любишь, значит, желаешь ей счастья, а она не будет счастлива по-настоящему, если ты потом ее бросишь. Ступай. Будешь спускаться, скажи ей, чтоб пришла сюда.
По лестнице. Мое первое — повозка, в спицы колес которой вплетаются смятые ромашки; мое второе — слово «деньги» на старо Манхэттенском жаргоне, а вместо нутра — сплошная дыра.
Проходя по площадке второго этажа, Ван увидел сквозь арочный проем Аду в черном платье — спиной к нему, в глубине будуара у овального окна. Ван сказал лакею, чтоб передал ей просьбу отца и чуть ли не бегом припустил через гулкий, одетый камнем вестибюль.
Мое второе еще и место, где сходятся два крутых склона. Правый нижний ящик моего практически ненужного нового письменного стола — размером примерно с отцовский; с приветом от Зига.
Прикинул: в этот час что ловить такси, что пройти пешком десять кварталов до Алекс-авеню обычным своим быстрым шагом — времени примерно одинаково. Он был без пальто, без галстука, без шляпы; сильный, пронзительный ветер слезистой изморозью застлал глаза, привел в горгоно-медузий хаос черные кудри. В последний раз входя в свои дурацки жизнерадостные апартаменты, он сразу же присел за тот самый роскошный письменный стол и написал следующую записку:
«Сделай так, как он говорит. Логика его преабсурдна, пред(sic!)исполнена туманом „викторианства“, как принято у них на Терре, по „моему неразумению“ [?], хотя в приступе [неразборчиво] я внезапно осознал, что он прав. Да, да, прав, там и сям, не вовсе некстати, как частенько случается. Сама понимаешь, девочка, что и зачем и как быть должно. В том последнем, что видели мы вместе, окне, некто рисовал [нас?], хотя с твоего второго этажа, наверное, тебе было не видать, что он в ужасно заляпанном фартуке мясника. Прощай, девочка!»
Ван запечатал письмо, нашел именно там, где ожидал, пистолет марки «Громобой», вставил в магазин один патрон, перевел в ствол. Затем, подойдя к зеркалу стенного шкафа, подвел дуло к виску на уровне птериона>{141} и нажал ладно льнущий к пальцу курок. Ничего не случилось — или, точнее, случилось все, и судьба его попросту в тот миг раскололась, как, вероятно, случается иногда по ночам, в особенности в чужой постели, в моменты наивысшего счастья или наивысшего одиночества, когда доводится умереть во сне, но продолжать без ощутимого прерывания мнимого сериала свое земное существование на следующее, аккуратно заготовленное утро при ненавязчиво, но плотно прилепленном сзади фиктивном прошлом. Словом, то, что держал он в правой руке, уже был не револьвер, а карманная расческа, которой он провел по волосам у висков. Уже начавших седеть к тому времени, когда Ада, ей уж было за тридцать, произнесла во время совместного разговора об их добровольном расставании:
— Я бы, верно, тоже застрелилась, если бы увидела, как Роза вьется над твоим трупом. «Secondes pensées sont les bonnes»[434], как другая твоя, беленькая bonne[435] с ее прелестным местным выговором любила повторять. Что до фартука, ты совершенно прав. Но вот чего не подметил