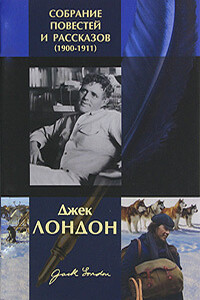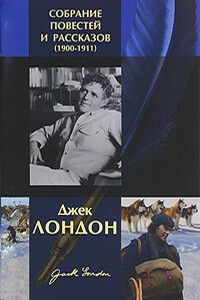Вскоре розовую даль Терры прикрыла от Аквы зловещая пелена. Распад личности продвигался стадиями, с каждым разом оказывавшимися все мучительней, ибо мозг человеческий способен сделаться изощреннейшей камерой пыток, какие только были изобретены за миллионы лет, в миллионах стран и отзывались воплями миллионов жертв.
У Аквы развилась болезненная чувствительность к говорку текущей из крана воды — что, когда моешь руки после иностранных гостей, перекликается порой (почти как тиканье пульса перед засыпанием) с въевшимися в слух обрывками чужеродной речи. Впервые обнаружив в себе возникающее вдруг, непрерывное, а для нее весьма желанное, забавное и, право, вовсе безобидное перепроигрывание той или иной едва отзвучавшей беседы, Аква возликовала при мысли, что ей, бедняжке Акве, вдруг выпало открыть такой простой метод записи и воспроизведения разговора, тогда как технари со всего света (эти «яйцеголовые») пытаются сделать сносными в быту и экономически выгодными эти крайне сложные и не дешевеющие гидродинамические телефоны и прочие жалкие новшества, что пришли на смену прежним, отправившимся к chertyam sobach'im (это по-русски), когда вышел запрет на ламмер, о котором и говорить не стоит. Вскоре, однако, ритмически безупречная, но словесно довольно размытая говорливость кранов начала обретать существенный смысл. Четкость выговора бегущей воды возрастала, и пропорционально росли неудобства этим доставляемые. Стоило Акве услышать или увидать, как кто-то говорит — причем, не обязательно с ней, — тотчас же принималась, громко и выразительно, говорить вода, звучал чей-то мгновенно угадываемый голос, очень по-особому или по-иностранному произносивший фразы, чья-то навязчивая дикторская скороговорка на каком-то несуразном сборище или некий жидковатый монолог в какой-то занудливой пьесе или то был сладкий голосок Вана или подхваченный на лекции отрывок стихотворения, мальчик чудный, люблю, милый, сжалься, молю, но особенно текучи и flou[26] строки итальянского стиха, как та песенка, которую старый доктор, полурусский, полупсих, припевал, коленки обстукивая, веко вывертывая, так, как, песенка, лесенка, баллатетта, деболетта… ту, воче сбиготтита… спиготти э диаволетта… де ло кор доленте… кон баллатетта ва… ва… делла струтта деструттаменте… менте… менте…>{16} остановите пластинку, не то наш гид опять примется показывать, на что уже извел нынче все утро во Флоренции, дурацкую колонну, воздвигнутую, как утверждал, в память о «вязетто», покрывшемся на глазах листвой, когда мимо проносили окаменеломертвого Св. Зевса, и тень над ним сгущалась, сгущалась; или это старая карга из Арлингтона что-то беспрерывно зудит своему молчаливому муженьку, когда мимо пролетают виноградники, и даже в туннеле (не позволяй им так с тобой поступать, Джек Блэк, скажи им, нет, ты скажи им, что…). Вода, бегущая в ванну из крана (или из душа) слишком калибанообразна>{17} и потому невнятна — а, может, слишком рьяно стремится исторгнуть горячий поток, избавиться от адского жара, потому ей не до пустой болтовни; но бормотание струй становилось все напористей и слышней, и едва в своем «доме» Аква услыхала, как один приглашенный, крайне ненавистный ей доктор (цитировавший Кавальканти) словоблудно исторг ненавистные предписания на своем умащенном русским немецком прямо в ненавистный ей биде, она решила вовсе не открывать краны.
Но и эта стадия миновала. Другие терзания пришли на смену словоохотливым спутникам той, звавшейся Аквиным именем, да так решительно, что когда она как-то в один из моментов просветления, захотев пить, отвернула маленькой слабой ручкой кран чаши для омовения, тепловатая лимфа молвила в ответ на своем языке без тени шутки или розыгрыша: Finito! И вот уже Акву до крайности изводило появление в мозгу мягких, черных ям (yami, yamishchi), возникавших между расплывчатыми монолитами мысли и воспоминаний; панику в сознании и физическую боль усугубляли руки, рубиновые до черноты: одна молила вернуть рассудок, другая просила, как подаяния, смерти. Все, созданное человеком, утратило свой смысл или переросло в жуткие образы; одежные вешалки изгибались белыми плечами обезглавленных теллуриев, одеяло, которое Аква спихнула с кровати, скорбными складками обратило к ней веко, вздутое ячменем, в мрачном укоре выгнув пухлую лиловатую губу. Усилия понять то, что людям одаренным передается каким-то образом посредством стрелок хронометра, или хроник стрелометра, сделались безнадежны, как и попытка разгадать кодовый язык секретного общества или смысл китайских песнопений того юного студента с некитайской гитарой, которого Аква знавала во времена, когда то ли она, то ли сестра ее произвела на свет лиловенькое дитя. И все же ее безумие, ее величество безумие, по-прежнему носило облик восторженного кокетства спятившей королевы: «Видите ли, доктор, прямо не знаю, по-моему, мне скоро понадобятся очки (надменный смешок). Совершенно не могу разобрать, что показывают часы на руке… Ради Бога, скажите же, что там на них! А-а! Половина… чего? Ладно, ладно, „лад“ и „но“ — из двух половин одно, у меня сестра-половинка и сын-половин. Понимаю, вы хотите осмотреть мой генитальдендрон, розочку Волосистую Альпийскую из