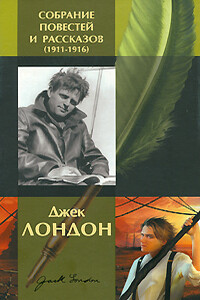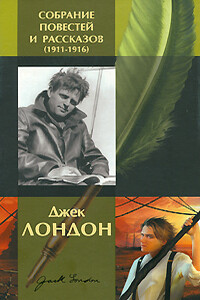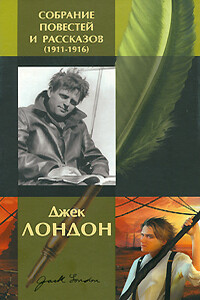Ада, или Эротиада - страница 110
Демон сунул в рот последний кусочек черного хлеба с нежной лососинкой, хватил последнюю стопку водки и занял свое место за столом, прямо напротив Марины, сидевшей на дальнем конце за громоздкой бронзовой чашей с точеной формы яблоками кальвиль и продолговатым виноградом Персты. Алкоголь, уж пропитавший его могучий организм, как всегда, способствовал распахиванию того, что Демон с пристрастием галлициста именовал «заколоченными дверьми»[256], и теперь, непроизвольно широко зевнув, что случается у многих мужчин при развертывании салфетки, Демон, рассматривая претенциозную, ciel-étoile[257], Маринину прическу, пытался постичь (в полном смысле этого слова), пытался овладеть реальностью факта, проталкивая его в свой чувственный центр: неужто она — та самая женщина, к которой он испытывал нестерпимую страсть, которая любила его истерично и своенравно, которая убеждала, что надо предаваться любви на ковре или на брошенной на пол подушке («так любят все порядочные люди между Тигром и Евфратом»), которая через две недели после родов способна была нестись стремительным бобслеем вниз по заснеженным склонам или заявиться Восточным Экспрессом с пятью чемоданами, с предком Дэка и горничной к д-ру Стелле Оспенко в ее ospedale[258], где Демон лечил царапину, нанесенную шпагой во время дуэли (след которой и по сей день белеет рубцом под восьмым позвонком, хоть минуло уже больше семнадцати лет). Как странно: когда после долгих лет разлуки встречаешь однокашника или толстуху тетку, обожаемую в младенчестве, тотчас охватывает неизбывное, теплое чувство человеческого родства, а в случае со старой возлюбленной ничего подобного не случается — как будто вместе с прахом нечеловеческой страсти начисто сметается единым порывом все человеческое из былого чувства. Демон, похваливая превосходный суп, смотрел на Марину: она, эта раздобревшая матрона, — без сомнения добродушная, хоть и суетливая и с виду малоприятная, нос, лоб и щеки которой поблескивают смуглым маслянистым покрытием, которое, по ее мнению, «молодит» больше, чем пудра, — была ему знакома меньше, чем Бутейан, кому пришлось однажды выносить ее, изобразившую обморок, из виллы в Ладоре прямо в кеб после окончательной, да-да, окончательной ссоры, накануне ее свадьбы.
Марина, по сути, манекен в человечьем обличье, подобных терзаний на испытывала, будучи совершенно лишена этого третьего видения (особого, полного чудных подробностей воображения), которое может быть свойственно также и многим людям, в других отношениях заурядным и несамостоятельным, но без которого память (даже память истинного «мыслителя» или гениального инженера) оказывается, будем откровенны, попросту трафаретом или вырванным листком. Мы не собираемся строго судить Марину; в конце концов ее кровь пульсирует у нас на запястьях и в висках, и многое из наших причуд у нас от нее, не от него. Все же нечувствительность ее души мы предать забвению не можем. Сидевший во главе стола мужчина, соединенный с нею жизнерадостной, юной парой, «юным героем» (на кинолексиконе) справа от нее, «инженю» слева, был все тот же Демон и в чуть ли не в том же черном смокинге (разве что теперь с гвоздикой, которую, вероятно, стащил из вазы, какую Бланш велено было принести из галереи), кто сидел с нею рядом на прошлое Рождество у Праслиных. Умопомрачительная пропасть, какую он при каждой встрече ощущал меж ними, это из разряда кошмарных «чудес света» нагромождение геологических разломов, невозможно было связать с прошлым тем мостиком, каким