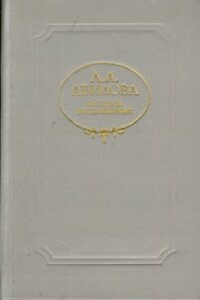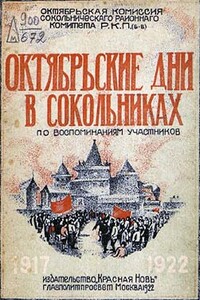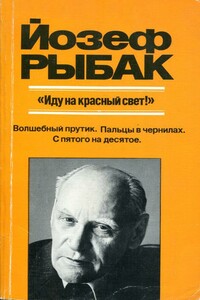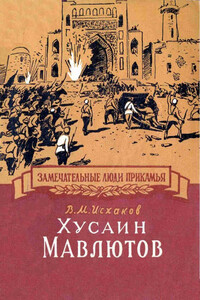Я простилась и пошла к двери.
Вдруг Антон Павлович окликнул меня.
- Лидия Алексеевна! Вы похожи на гастролершу! - громко сказал он.
- Это платье - Чайка, - смеясь, сказала я.
Доктор возмутился:
- Антон Павлович! Вы сами врач... Завтра, если вам будет хуже, - никого не пущу. Никого!
Мы с Алешей шли обратно, и я все время утирала слезы, которые катились по лицу.
Алеша молча отдувался и вздыхал.
- Алеша, - сказала я, - ты меня не жалей: у меня на сердце тепло, тепло...
XIII
Дома меня ждали две телеграммы. Одна: "Надеюсь встретить 27. Очень соскучились". Другая: "Выезжай немедленно. Ждем целуем".
На другое утро третья: "Телеграфируй выезде. Жду завтра непременно".
Я отправилась в редакцию "Русской мысли" к Гольцеву за корректурой.
Гольцев удивился.
- Зачем она ему сейчас? Успел бы позже.
Узнав, что я была в клинике, он стал меня расспрашивать о состоянии здоровья Чехова и подозвал еще двух или трех лиц.
- Вот... свежие новости об Антоне Павловиче.
- Плохо, что весна, - сказал кто-то. - Вчера река прошла. Это самое опасное время для таких больных. /260/
- Я слышал, что он очень плох, очень опасен... - сказал еще кто-то.
- Значит, к нему допускают посетителей?
- Нет, нет, - сказал Гольцев. - Лидия Алексеевна передаст ему наши поклоны и пожелания. И скажите ему, что с корректурой спеха нет. Пусть не утомляется.
Я ушла из редакции очень расстроенная. Антон Павлович не произвел на меня впечатления умирающего, а тут говорили, что он очень, очень плох, упоминали про реку... "Самое опасное время"... Чувствовалось, что считали его погибшим.
Идти в клинику было рано (раньше двух меня не пустили бы), и я пошла на реку.
На Замоскворецком мосту я подошла к перилам и стала глядеть вниз. Лед уже шел мелкий, то покрывая собой всю реку, то оставляя ее почти свободной. День был солнечный, какой-то особенно голубой и сияющий, но в нем мне чудилась угроза, как и в мчащейся из-под моста буйной, нетерпеливой реке. Набегали льдины, кружились и уносились вдаль. Мне казалось, что река мчится все скорее и скорее, и от этого слегка кружилась голова.
Вот... Подточило, изломало, осилило и уносит. И жизнь мчится, как река, и тоже подтачивает, ломает, осиливает и уносит. "Самое опасное время"... "Плох Антон Павлович! Очень плох!"
Припоминалась мне его печать, которой он последнее время запечатывал свои письма. На маленьком красном кружочке сургуча отчетливо были напечатаны слова: "Одинокому везде пустыня".
"До тридцати лет я жил припеваючи", - как-то сказал он мне.
После тридцати осилила, изломала жизнь? И теперь уносит?
Эх, жизнь! Могла ли она удовлетворить такого исключительного человека, как Чехов? Могла ли не отравить его душу горечью и обидой? Эту глубокую, чистую душу, такую требовательную к себе.
Не нашел счастья Антон Павлович! Едва прошел хмель молодости, когда беспредметно бьет ключом в груди радость бытия, едва он серьезно и требовательно оглянулся кругом, как уже начал себя чувствовать в пустыне, как уже стал одиноким. Быть может, смутно /261/ было вначале это чувство, но становилось все определеннее, все ощутимее, иначе, к чему бы заказывать себе такую печать?{261} И, возможно, не понимал он и не знает и теперь, что слишком высоко стоит он над всеми и что по его росту в нашей жизни счастья для него еще нет.
И вдруг почему-то вспомнилось смешное.
- Зачем вы прислали мне двугривенный? - спросил меня Антон Павлович.
- Двугривенный?!
- Ну да. Вы отдали его железнодорожному сторожу на станции Лопасня для передачи мне.
- Я вам записку передала!
- Записку сторож так замазал, что на ней ничего разобрать было невозможно, кроме разве вашей подписи. Двугривенный он мне вручил целешеньким. Я взял.
Это "я взял" смешило меня каждый раз, как я о нем вспоминала, и даже теперь мне опять стало смешно.
А река все мчалась и мчалась...
Нет! Антон Павлович не умрет... Допустить эту мысль - это потерять голову, это...
Я чуть не уронила пачку, которую держала под мышкой, встряхнула головой и быстро направилась к берегу.
Я пошла покупать цветы. Антон Павлович написал: "И еще что-нибудь". Так вот, пусть цветы будут "что-нибудь".