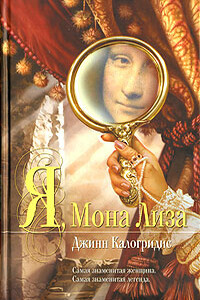В декабре девяносто первого его разбудил шум на лестнице. Люди в бело-красно-синей форме национальной гвардии выломали дверь. Пришли за ним — кто-то на него донес. Кто — он так никогда и не узнал. Кто-то, кто хотел выдвинуться в рядах якобинцев. Может быть, его банкир или хозяин квартиры. Иностранный аристократ — кого же еще подозревать в измене? Ему сообщили, что он шпион, и отвезли в Сен-Жермен-де-Пре, совсем рядом с его квартирой, и сказали, что обязаны его проверить.
Никакого допроса так и не последовало. Его затолкали в камеру в военной тюрьме, в подвале древнего бенедиктинского монастыря. Глухие стены, никакого света, никаких окон или хотя бы бойницы. Поначалу он терпеливо ждет, готовит речь в свою защиту. Надсмотрщик просовывает ему под дверь хлеб и воду, иногда какую-то кашу, но лиц он не видит, на вопросы никто не отвечает. Возможно, у революционеров произошла очередная перестановка власти и про него просто забыли. В камере всегда темно, он не видит своих пальцев. Со временем он уже не знает, закрыты его глаза или открыты, где заканчивается его тело и где начинается мрак. Он сутками сидит в полной темноте, задыхаясь от страха и ненависти.
Внезапно он понимает, что он здесь не один. Приходит его отец — а он-то считал, что тот давно умер. Когда он ощупью находит топчан, тот уже занят: там затаилась его мать, которая только и выжидает момент, чтобы вцепиться когтями ему в лицо.
Он потерял счет времени.
Внезапно из полудремы его выводит шум в коридоре: какая-то ссора. Дверь внезапно открывается, и его ослепляет свет, такой яркий, что он вынужден закрыть глаза ладонью. Его хватают и несут на двор перед церковью, где собрались сотни людей. Санкюлоты, национал-гвардейцы, революционная чернь. Сюда волокут не только его — всех узников Сен-Жермен.
Тут и там из раскачивающейся толпы поднимается какая-то голова, но чрезмерно любопытных сразу же с руганью осаживают. Сначала он не понимает, что происходит, но почти сразу с ужасом осознает: казнь. Казнь затаптыванием. Толпа топчет пленников. На каждого набрасывается самое малое дюжина, они поддерживают друг друга за плечи и талию для сохранения баланса. Очень быстро тело казнимого не выдерживает. С хрустом лопается грудная клетка, череп растаптывают в лепешку с такой силой, что глаза вылетают из орбит на булыжник. В конце концов остается только кровавая каша, в которой невозможно с уверенностью определить хоть какую-то часть тела.
На двор набивается все больше народу. Давка немыслимая, и его палачи на секунду отпускают его, чтобы уцелеть самим. Он падает на колени и ползет по мокрой земле через лес топчущихся ног, пока не видит перед собой забор, а заборе щель — выбита одна из досок. Щель узкая, но он, к своему удивлению, обнаруживает, что пролезает в нее без всякого труда, — настолько исхудал.
Так он вновь обретает свободу. По другую сторону забора он ничем не отличается от толпы прочих оборванцев, рвущихся принять участие в соблазнительной забаве. Спускается к Сене, смотрит в воду и не узнает свое отражение. Мучительно долго моется — ему кажется, что тюремная грязь прилипла к нему навсегда.
Постепенно, из случайных разговоров, он узнает, что произошло. Таких, как он, схваченных иностранцев, в тюрьмах сидит очень много, настолько много, что революционеры испугались, как бы они не взбунтовались, и начали подзуживать чернь к расправе. Что может быть милее народу, чем затоптать кого-то насмерть? И не только в Сен-Жермен-де-Пре — подобные сцены разыгрывались во многих тюрьмах. В его отсутствие смерть завладела Парижем. Случилось то, чего он так долго ждал. В городе трупы лежали штабелями выше его роста. Повсюду царил хаос. По другую сторону Сены он видел, как толпа заставила женщину залезть на гору трупов и петь «Марсельезу», а когда она отказалась, кто-то из толпы проткнул ей живот штыком. Не забудьте, господин Винге, — стоит сентябрь девяносто второго года, повсюду на мостовой желтые и красные опавшие листья сказочной красоты. Несколько дней назад толпа штурмовала Тюильри, король пытался бежать, но был пойман. Арестована вся его семья. На улицах поют «Са Ира», «Дело пойдет», песню первых лет революции, но с другими словами. Речь уже не идет о свободе для угнетенных, теперь важно другое: «Дело пойдет, повесим аристократов на столбах». Всех без исключения заставили прикрепить к шляпам революционные ленты — три цвета, символизирующие свободу, равенство и братство.