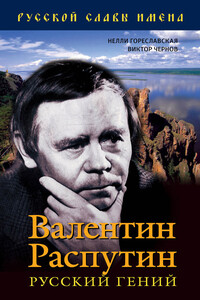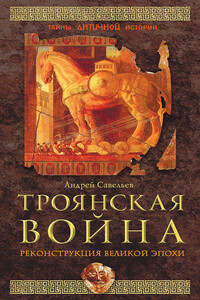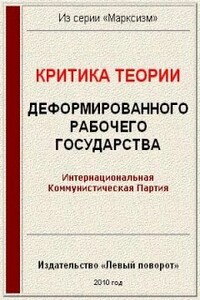В начале 30-х годов XX века в СССР сталкивались две политические стратегии, заложенные прежними этапами политической жизни страны.
Первая стратегия продолжала нигилизм большевистского порыва к переделу всего мира. Она требовала тотального отречения от прошлого – преследования и уничтожения всех признаков Традиции. Психоаналитики называют такую установку Эдиповым комплексом отцеубийства. Большевизм нес эту психическую заразу в форме острой истерии: поражение собственного правительства в войне, самоопределение вплоть до отделения, грабь награбленное и т. д. Разрушив собственное государство, большевизм превратил его в плацдарм для мировой революции. Расчет был на всеобщую асоциальность, на элементы разложения, ассоциированные в интернационал. Всеобщая социальная демобилизация («пролетарская революция») обещала большевикам, как они думали, гибель всех государств и становление всемирной марксистской империи – «царство свободы».
Вторая стратегия отвергала нигилизм и искала новую государствостроительную версию для общества, вышедшего из гражданской войны раздираемым противоречиями – классовой борьбой и утопическими идеями о мировой миссии, мировой гражданской войне. Противостоять нигилистическому разложению могла только новая версия патриотизма и превращение репрессивной энергии классовой ненависти в ненависть к нигилистическому утопизму и внешнему врагу. Эдипов комплекс ослаблял страну, стоящую перед угрозой оккупации и насилия чужой государственной воле. А потому должен был быть преодолен.
Крупнейший политический мыслитель современной России Александр Панарин писал: «Когда Сталин выдвинул тезис об обострении классовой борьбы по мере развертывания социалистического строительства, это следовало понимать не в буквальном классово-марксистском, а, скорее, в психоаналитическом смысле. Оппонентом дисциплинарного государства-организатора индустриального прорыва были никакие не буржуазные типы и классы, а особый культурно-антропологический тип, не способный к перманентной мобилизации. “Диктатура пролетариата” формировала неумолимо суровое “Сверх-Я”, призванное подавить гедонистическую инстинктивность, “обнадеженную” в предыдущий период раскрепощающим духом модерна вообще, революционно-анархической утопией, в частности. Сталинская эпоха вытравила из этой утопии всякое гедонистическое содержание, превратив ее в чисто героический миф, адресованный пионерам социалистического строительства».
Логика событий говорила: либо нигилистическая демобилизация общества, либо патриотическая мобилизация. И то и другое очевидным образом требовало репрессивного строя. Чистки 30-х годов, сколь чудовищными они ни кажутся из сегодняшнего времени, были, с одной стороны, не более чудовищными, чем гражданские и мировые войны той эпохи или жестокости иных политических режимов, с а другой стороны, они очищали страну от «перегретых» пассионариев, готовых бросить ее в топку мировой революции, и от демобилизованных анархистов – «лишних людей» XX века, к которым советская власть отнеслась не столь лояльно, как царская.
Обе стратегии переплетались, заражая общество страстью к репрессиям. Истинные и мнимые враги подлежали уничтожению. Гражданская война продолжалась в новых формах.
В 1928 году Шахтинское дело становится публичным процессом, разоблачающим скрытый заговор. Впервые опробована специальная обработка подозреваемых, превращавшая их в послушный инструмент для театрального саморазоблачения. В 1930 году обнаруживаются организаторы голода в пищевой промышленности. В том же году – масштабный процесс Промпартии, предваряемый митингами трудящихся с требованием смертной казни. Но уже к 1931 году позиции Сталина укрепились настолько, что репрессии пошли на спад. Причем Сталин не только провозгласил лозунг перехода от разгрома старой технической интеллигенции к политике ее привлечения к решению проблем развития хозяйства, но и лозунг заботы о ней. В 1931 году были остановлены процесс вредителей в фарфоровой промышленности и процесс против Трудовой Крестьянской партии – якобы существовавшего массового подполья, готовившего свержение диктатуры пролетариата. В первом деле обвиняемые, несмотря на ставшие уже привычными саморазоблачения, были признаны невиновными, а от второго дела осталось только осуждение небольшой группы Кондратьева-Чаянова.