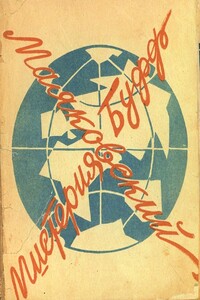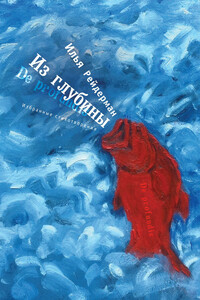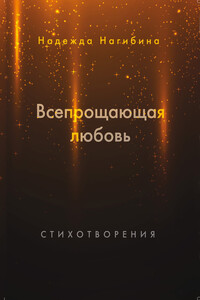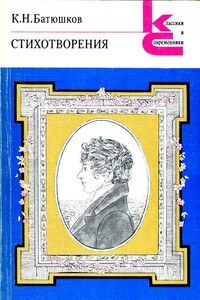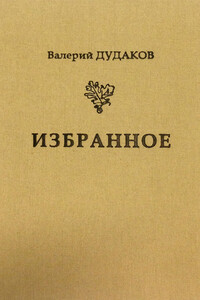А одежда тонка,
будто вовсе и нет —
из тончайшей поэтовой неги она.
Кальсоны Вильсона
не кальсоны — сонет,
сажени из ихнего Онегина.
А работает как!
Не покладает рук.
Может заработаться до сме́рти.
Вертит пальцем большим
большого вокруг.
То быстрей,
то медленней вертит.
Повернет —
расчет где-нибудь
на заводе.
Мне
платить не хотят построчной платы.
Повернет —
Штраусы вальсы заводят,
золотым дождем заливает палаты.
Чтоб его прокормить,
поистратили рупь.
Обкормленный весь,
опо́енный.
И на случай смерти,
не пропал чтоб труп,
салотопки стоят,
маслобойни.
Все ему
американцы отданы,
и они
гордо говорят:
я —
американский подданный.
Я —
свободный
американский гражданин.
Под ним склоненные
стоят
его услужающих сонмы.
Вся зала, полна
Линкольнами всякими.
Уитмэнами,
Эдисонами.
Свита его
из красавиц,
из самой отборнейшей знати.
Его шевеленья малейшего ждут.
Аделину
Патти
знаете?
Тоже тут!
В тесном смокинге стоит Уитмэн,
качалкой раскачивать в невиданном ритме.
Имея наивысший американский чин —
«заслуженный разглаживатель дамских морщин»,
стоит уже загримированный и в шляпе
всегда готовый запеть Шаляпин.
Паркеты песком соря,
рассыпчатые от старости стоят профессора.
Сам знаменитейший Мечников
стоит и снимает нагар с подсвечников.
Конечно,
ученых
сюда
привел
теорий потоп.
Художников
какое-нибудь
великолепнейшее
экольдебозар.
Ничего подобного!
Все
сошлись,
чтоб
ходить на базар.
Ежеутренне
все эти
любимцы муз и слав
нагрузятся корзинами,
идут на рынок
и несут,
несут
мяса́,
масла́.
Какой-нибудь король поэтов
Лонгфелло
сто волочит со сливками крынок.
Жрет Вильсон,
наращивает жир,
растут животы,
за этажом этажи.