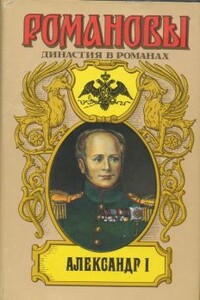Карамзин молчал. Слезы обиды за друга, за брата любимого кипели в душе его, и он с трудом их удерживал. Облокотившись о мрамор камина, опустил голову и закрыл глаза рукою.
– Нездоровится, ваше превосходительство? – спросил Сперанский.
– Да, голова болит. Должно быть, от нервов. Нервы мои в сильном трепетаньи…
– Это нынче у всех. От погоды, – заметил Сперанский. – А знаете, отличное средство для утверждения нервов: вместо чаю—холодный отвар миллефолия с горькой ромашкой.
– Миллефолий, миллефолий… – повторил Карамзин с улыбкой болезненной; что-то было в этом слове приторно-сладкое, тошное и томное, что застревало в горле комком непроглоченным. И казалось ему, что сам Сперанский с его лицом белизны удивительной, почти как молоко, с бледно-голубыми глазами, подернутыми влажностью, «глазами умирающего теленка», – весь как миллефолий.
Сделал над собой усилие, проглотил комок и отнял руки от глаз.
– Да, все к лучшему, ваше превосходительство, хотя и не в смысле здешнего света, – улыбнулся тихою улыбкою. – Есть Бог – будем спокойны.
– Ваша правда, Николай Михайлович, будем спокойны, – улыбнулся и Сперанский. – Я всегда говорил: Dei providentia et hominum confusione Ruthenia ducitur.
– Как? Как вы сказали?
– Божеским Промыслом и человеческою глупостью Россия водится.
Карамзин опять закрыл глаза рукою. Ему хотелось плакать и смеяться вместе.
«Хороши мы оба, – думал он, – в такую минуту, когда решаются судьбы отечества, российский законодатель ничего не находит, кроме смеха, а российский историк – ничего, кроме слез. Кончена, кончена жизнь! Пора умирать, старая Бедная Лиза!»
Открылась дверь в генерал-адъютантскую, и опять все оглянулись. С большим портфелем в руках, семеня ножками, маленький, толстенький, кругленький, как шарик, вкатился в комнату князь Александр Николаевич Голицын.
– Ну что, готов манифест? – обступили его все.
– Какой манифест? – притворился он непонимающим.
– Э, полноте, ваше сиятельство, весь город знает!
– Ради Бога, господа, секрет государственный!
– Да уж ладно, не выдадим. Только скажите: готов?
– Готов. Сейчас к подписи.
– Ну, слава Богу! – вздохнули все с облегчением. И в темном углу зашевелились три тени дряхлые. Аракчеев медленно перекрестился.
А на противоположном конце залы открылась другая дверь из коридора во временные покои великого князя Николая Павловича, и генерал-адъютант Бенкендорф, позвякивая шпорами, скользя по паркету, как по льду, выбежал, весь легкий, летящий, порхающий; казалось, что на руках, и ногах его – крылышки, как у бога Меркурия. Гладкий, чистый, вымытый, выбритый, блестящий, как новой чеканки монета. Молодой среди старых, живой среди мертвых. И, глядя на него, все поняли, что старое кончено, начинается новое.
Рассветало. Вставал первый день нового царствования – страшный, темный, ночной день. Черные окна серели – серели и лица трупною серостью. Казалось, вот-вот рассыплются, как пыль, разлетятся, как дым, тени дряхлые, – и ничего от них не останется.
«Лейб-гвардии дворянской роты штабс-капитан Романов Третий, – чмок!» – так шутя подписывался под дружескими записками и военными приказами великий князь Николай Павлович в юности и так же иногда приговаривал, глядя в зеркало, когда оставался один в комнате. В темное утро 13 декабря, сидя за бритвенным столиком, между двумя восковыми свечами, перед зеркалом, взглянул на себя и проговорил обычное приветствие.
– Штабс-капитан Романов Третий, всенижайшее почтенье вашему здоровью – чмок!
И хотел прибавить: «Молодчина!», но не прибавил – подумал: «Вон как похудел, побледнел. Бедный Никс! Бедный малый! Pauvre diable! Je deviens transparent![7]».
Вообще был доволен своею наружностью. «Аполлон Бельведерский» – называли его дамы. Несмотря на двадцать семь лет, все еще худ худобой почти мальчишеской. Длинный, тонкий, гибкий, как ивовый прут. Узкое лицо, все в профиль. Черты необыкновенно правильные, как из мрамора высеченные, но неподвижные, застывшие. «Когда он входит в комнату, в градуснике ртуть опускается», – сказал о нем кто-то. Жидкие, слабо вьющиеся, рыжевато-белокурые волосы; такие же бачки на впалых щеках; впалые, темные, большие глаза; загнутый, с горбинкой нос; быстро бегущий назад, точно срезанный, лоб; выдающаяся вперед нижняя челюсть. Такое выражение лица, как будто вечно не в духе: на что-то сердится, или болят зубы.