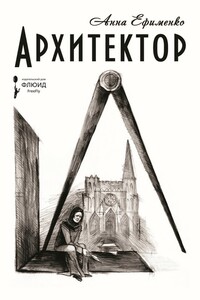– А вы всех не хотите? Никого не хотите?
– Нет, не хочу, не могу, Голицын. Я не рожден убийцею…
– Так что же делать, князь? Вам бы должно отказаться от диктаторства, а, пожалуй, и совсем выйти из Общества? – посмотрел ему Голицын прямо в глаза с тихой усмешкой.
Трубецкой замолчал: должно быть, вдруг западню почувствовал.
– Ну, так как же, князь? А? Как честному человеку, вам надобно ответить прямо – да или нет, остаетесь с нами или уходите? – проговорил Голицын с вызовом уже не скрываемым.
– Я, право, не знаю. Я еще подумаю…
– Подумаете? Да вот беда, ваше сиятельство, думать-то некогда: мы ведь завтра начинаем…
– Завтра? Как завтра? – пролепетал Трубецкой, уставившись на Голицына взором непонимающим.
– Ах, да, ведь вы еще не знаете, – посмотрел на него Голицын из-под очков, усмехаясь злорадно и, как всегда в такие минуты, лицо его отяжелело, окаменело, сделалось похожим на маску. – Окончательный курьер уже прибыл из Варшавы с отречением Константина; завтра в семь часов утра по всем войскам присяга; мы собираемся на площади Сената и начинаем восстание…
– Восста… восста… – хотел Трубецкой выговорить и не мог; голос пресекся, глаза расширились, лицо побледнело, позеленело, вытянулось, толстые губы задрожали, и он вдруг сделался еще более похож на «жида».
«Ожидовел от страха», – подумал Голицын с отвращением.
– Что же вы молчите, сударь? Извольте отвечать!
– Перестаньте, Голицын, не смейте! – вскочил Оболенский и подбежал к Трубецкому. – Как вам не стыдно! Разве не видите?
Трубецкой откинул голову на спинку кресла и закатил глаза. Оболенский расстегнул ему ворот рубашки.
– Воды! Воды!
Голицын отыскал графин, налил и подал стакан. Трубецкой хватался губами за края, и зубы стучали о стекло. Долго не мог справиться. Наконец, выпил, опять откинул голову и передохнул.
Оболенский, нагнувшись к нему, гладил его рукой по голове, как давеча Рылеева.
– Ну, ничего, ничего, Трубецкой! Не слушайте Голицына: он вас не знает. Ужо поговорим с Рылеевым и как-нибудь устроим. Все будет ладно, все будет ладно!
– Да я ничего, пустяки, пройдет. У меня сердце… Все эти дни не очень здоров, а давеча выпил кофе, так вот, должно быть, от этого. Ну, и сразу… Я не могу, когда так сразу… Извините, господа, ради Бога, извините…
Рыжеватые волосы прилипли к потному лбу, толстые губы все еще дрожали, улыбаясь, и в этой улыбке было что-то детски-простое, жалкое: Дон Кихот от бреда очнувшийся; лунатик, упавший с крыши и разбившийся.
Голицыну вдруг стало стыдно, как будто он обидел ребенка. Отвернулся, чтобы не видеть. Боялся жалости: чувствовал, что, если только начнет жалеть, все простит, оправдает «изменника».
– Послушайте, князь, – начал, не глядя на Трубецкого.
– Послушайте, Голицын, – перебил Оболенский спокойно и твердо, – я имею поручение от Рылеева привезти к нему Трубецкого. И я это сделаю. А вы не. мешайте, прошу вас, оставьте нас. Поезжайте к Рылееву и скажите ему, что будем сейчас.
– Я только хотел сказать…
– Ступайте же, Голицын, ступайте! Делайте, что вам говорят!
– Это что ж, приказание?
– Да, приказание.
– Слушаю-с, – неловко усмехнулся Голицын, сухо поклонился и вышел.
«Все умные люди – дураки ужасные», – вспомнилось ему изречение. Умным дураком чувствовал себя в эту минуту.
«Да, Трубецкой отошел с печалью, как тот богач евангельский. Но чем он хуже меня, хуже нас всех? Кто знает, что будет с нами завтра? Не отойдем ли и мы с печалью? «– подумал Голицын.
Когда он вернулся к Рылееву, тот уже умылся, побрился, скинул халат, надел фрак, хотя и домашний, но щегольской, темно-коричневый, «пюсовый»,[16] с модным из турецкой шали поджилетником и высоким белым галстухом. Выйдя в залу, он, в разговоре с гостями, как всегда оживился и с лихорадочным блеском в глазах, лихорадочным румянцем на щеках казался почти здоровым.
Утрешнего Рылеева Голицын не узнал – зато узнал давнишнего: лицо худое, скуластое, смуглое, немного цыганское; глаза под густыми черными бровями, огромные, ясно-темные; женственно-тонкие губы с прелестною улыбкою; вьющиеся волосы тщательно в колечки приглажены, на виски начесаны, а на затылке упрямый хохол мальчишеский. И весь он – легкий, как бы летящий, стремительный, подобно развеваемому ветром пламени.