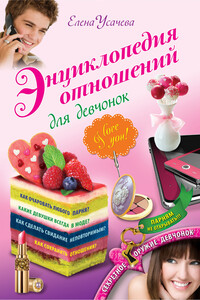Представления о душе в досократической философии 59
философии встречаемся с доказательством как таковым, до этого философы опирались
больше на аналогии и метафоры (См. [2, с. 152]). Попытки доказательства мы находим у
Парменида. По сообщениям Платона, будучи молодым, Сократ слушал Парменида (См. [4, с.
275]). Возможно, что приемы “сократических диалогов” имеют своим истоком беседы
Парменида с его учениками и слушателями. А вот доказательства основных положений
философии Парменида, на мой взгляд, доказательствами не являются. Сначала. Парменид
пытается доказать, что небытие не существует, потому что оно “немыслимо” (его нельзя
помыслить). Для Парменида предмет мысли и мысль о предмете тождественны. Раз нет
небытия, то тогда бытие должно быть только единым и неподвижным, ведь тогда ничто не
может разделить бытие на части и ничто не может исчезнуть и ничто не может возникнуть.
Стало быть, в мире все неизменно.
С: Действительно, это не доказательства.
А.:А что ты скажешь на это: покоится ли летящая стрела?
С: В каком смысле? Она же движется?
А: А вот третий представитель Элейской школы, Зенон, утверждал, что покоится. С: Как так?
А.: Давай будем рассуждать, как Зенон. В каждый данный момент времени стрела занимает какое-то особое место, так? С: Так.
А.: В следующее мгновение она будет занимать какое-то другое место? С: Да.
А.: Занимая этот отрезок пространства, стрела в этом месте покоится? С: Похоже, что так.
А.: Значит, в сумме мы получаем сумму состояний покоя? С: Да.
А.: Так можем ли мы из суммы состояний покоя вывести состояние движения? По Зенону,
нет. Значит, движения нет.
С: Что-то здесь не так, но не пойму, что именно.
А.: Подумай на досуге над этой апорией — так назывались эти умозаключения Зенона, которые буквально ставили в тупик (апория так и переводится — безвыходное положе-
60 Диалог 2. Первая научная гипотеза древнего человека
ние) его слушателей. Рассуждения Зенона — это первые в истории философии строго
логические доказательства, и не случайно его апории до сих пор используются в различных
пособиях по логике. Я думаю, что не меньший интерес они должны вызывать у психологов,
занимающихся психологией мышления.
3. Эмпедокл и Анаксагор
С: Кажется, кто-то из названных тобой философов соединил в своем творчестве ионийскую и италийскую традиции?
А.: Верно. Это был Эмпедокл. Про него ходят легенды такого рода. Желая, чтобы соотечественники считали его богом, он якобы прыгнул в жерло вулкана Этны. Узнали об этом позже, когда из кратера вулкана выбросило его башмак (См. [4, с. 333-334]). Но про Эмпедокла рассказывают и другое. Когда однажды на город обрушился ураган, он ослабил ветры благодаря тому, что окружил город ослиными шкурами (См. [Там же, с. 335]). В другой раз он очистил воды зараженной реки за счет вод двух соседних рек, и мор прекратился. За это, собственно, соотечественники и стали считать его богом. Для нас, психологов, особенно интересно, естественно, учение Эмпедокла о душе. Во-первых, Эмпедокл считал, что душа локализована не в голове или грудной клетке, а в крови (См. [4, с. 361]). Во-вторых, он не видит различия между душой и умом (нусом, разумом, интеллектом), которое будет проведено впоследствии, и поэтому считает, как отмечают его комментаторы, что и у растений, и у животных тоже имеется ум и понимание (См. [4, с. 386, 394]). В-третьих, Эмпедокл много внимания уделяет изучению механизмов чувственного познания. Основной принцип Эмпедокла — “подобное познается подобным”. Вот что говорит об учении Эмпедокла позднейший комментатор его текстов Теофраст. Теофраст: Эмпедокл обо всех ощущениях полагает одинаково, а именно: он утверждает, что ощущение происходит благодаря подогнанности [прилаженности] [объектов ощущения] к порам каждого [органа чувств]. Потому-то одни [из органов чувств] и не могут различить объекты других, так как у одних поры слишком широки, у других слишком узки
Представления о душе в демократической философии 61
по сравнению с воспринимаемым объектом, так что одни объекты проникают [в поры] с легкостью, не задевая их, а другие вовсе не могут войти [Там же, с. 373]. А.: Удовольствие возникает в случае встречи с “подобным” объектом, неудовольствие — когда нечто действует на неподобное ему. Интересно, что исследуя строение уха, Эмпедокл, как считается, открыл ушной лабиринт (См. [5, с. 30]). И вот при таком вполне материалистическом воззрении на душу у Эмпедокла встречаются совершенно иные, с нашей точки зрения, даже противоположные этим идеи. Не случайно он был одно время членом Пифагорейского союза. Вполне в духе учения пифагорейцев Эмпедокл неоднократно говорит о метемпсихозе, вспоминая, как и Пифагор, свои прошлые жизни, говорит о том, что “души мудрых становятся богами” [4, с. 412], иные души в земной жизни несут наказание за убийство, вкушение плоти и каннибализм, а тело Эмпедокл называет “землей, в которую облачен человек”, то есть своего рода темницей. Сам же Эмпедокл не видел в этом никакого противоречия, полагая, видимо, что оба рассмотренные выше учения просто относятся к разным областям (См. [5, с. 30]). И действительно, в последующем эти две разные области идей будут разрабатываться философами двух противоположных направлений: представители материалистических учений будут все свое внимание уделять прежде всего натурфилософским вопросам и стремиться к естественному объяснению свойств души, идеалисты же, справедливо полагая, что морально-этические нормы поведения человека вряд ли могут быть объяснены натурфилософскими построениями, все свое внимание будут уделять обоснованию неестественного — или сверхъестественного — происхождения этих норм. Это особенно отчетливо обнаружится, когда мы будем говорить о противостоянии величайших философов Древней Греции Демокрита и Платона, которые творили уже в так называемую эпоху классики (V—IV века до нашей эры). С: Я чувствую, мы до них не доберемся.