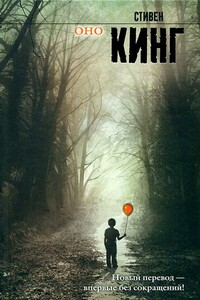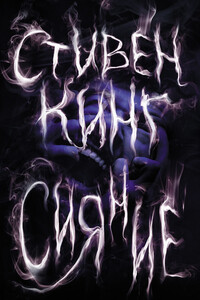— Я бы не согласился с вами, даже будь она из чистого золота, — ответил он. — Вы изменили мою жизнь. — Посмотрел на Бобби. — Наши жизни.
— Майк, для меня это только в радость.
Он обнял меня, а в 1962 году такое мужское объятие дорогого стоило. И я от всего сердца обнял его в ответ.
— Оставайтесь на связи, — попросила меня Бобби Джил. — Даллас не далекий. — Помолчала. — Недалеко.
— Обязательно, — пообещал я, зная, что не дам о себе знать, да и они скорее всего тоже. Им предстояло вступить во взрослую жизнь, и при условии что повезет, их ждало светлое будущее.
Они уже уходили, когда Бобби обернулась.
— Жаль, что вы двое расстались. Я очень огорчилась.
— Я тоже, — ответил я, — но, возможно, оно и к лучшему.
Я направился домой, чтобы взять пишущую машинку и прочие пожитки, которые, по моим прикидкам, легко умещались в чемодане и нескольких картонных коробках. На первом же светофоре на Главной улице, остановившись на красный свет, открыл деревянный ящичек и посмотрел на авторучку. Прекрасная вещица, подарок очень меня тронул. А еще больше тронуло другое: они дожидались меня, чтобы попрощаться. Зажегся зеленый. Я захлопнул крышку ящичка и поехал дальше. С комком в горле — но глаза оставались сухими.
Жизнь на Мерседес-стрит приятных ощущений не принесла.
Дни шли своим чередом. Кричали дети, все в обносках старших братьев и сестер, домохозяйки жаловались друг другу на жизнь у почтовых ящиков или веревок для сушки белья во дворе. Подростки разъезжали на ржавых колымагах с фибергласовыми глушителями и орущими во всю мощь радиоприемниками. Не донимало меня и раннее утро, от двух до шести часов. В это время на улице воцарялась полная тишина: измученные коликами младенцы наконец задремывали в колыбельках (или в ящиках комода), а их папаши проваливались в пьяный сон, готовясь к еще одному дню работы с почасовой оплатой в магазинах, на фабриках или на окрестных фермах.
От четырех до шести пополудни улицу наполняли дикие крики. Мамаши кричали на детей, загоняя их домой, чтобы те выполнили порученную им домашнюю работу. Трезвые папаши кричали на своих жен, возможно, потому что больше было не на кого. Многие жены тоже не лезли за словом в карман. Подвыпившие папаши начинали появляться после восьми, но особенно шумной улица становилась ближе к одиннадцати, когда закрывались бары или заканчивались деньги на выпивку. Тогда я слышал хлопанье дверей, звон разбивающихся стекол, крики боли, если какой-нибудь из папаш набрасывался на жену, или на детей, или на всех разом. Часто красные мигалки, отбрасывавшие сполохи на зашторенные окна моего дома, сообщали о прибытии копов. Пару раз гремели выстрелы, возможно, в воздух, может, и нет. Одним ранним утром, выйдя на крыльцо за газетой, я увидел женщину с запекшейся кровяной коркой на нижней половине лица. Она сидела на дороге в четырех домах от моего, пила из банки пиво «Одинокая звезда». Я едва не подошел к ней, чтобы спросить, не нужна ли помощь, хотя знал, что вмешиваться в жизнь обитателей этого рабочего дна чревато. Потом она увидела, что я смотрю на нее, и показала мне средний палец. Я ретировался в дом.
Здесь не приходилось ждать появления «Фургона радушия»[131], а женщины по имени Маффи или Баффи не спешили на собрание «Молодой лиги». Чего мне хватало на Мерседес-стрит — так это времени на раздумья. Времени скучать по моим друзьям в Джоди. Скучать по работе, которая отвлекала от мыслей о том, что предстояло сделать, ради чего я и находился здесь. Времени осознать, что учительство — не только способ коротать дни, а любимое дело, занимаясь которым испытываешь чувство глубокого удовлетворения, поскольку действительно приносишь пользу.
Времени хватало и на то, чтобы погоревать о моем прежде шикарном кабриолете. Помимо сломанного радиоприемника и кашляющего двигателя, прогорел ржавый глушитель, а по лобовому стеклу змеилась трещина: в него попал камень из-под заднего колеса самосвала, груженного асфальтом. Я перестал мыть «санлайнер», и теперь — как ни печально — он мало чем отличался от других транспортных развалюх Мерседес-стрит.