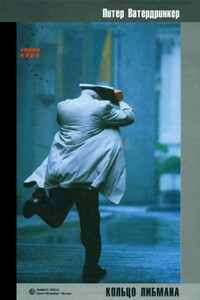Три коробки с клеймом «La Grange Neuve de Figeac» стояли на самом краю пирса, рядом с железной тумбой, к которой пришвартовался паром. Из всех пассажиров он единственный оказался туристом, все остальные были, судя по отсутствию багажа, местными жителями и сразу заторопились к оставленным на берегу автомобилям и велосипедам. Паром, недолго простояв, отчалил. Август был в самом разгаре, европейский континент изнемогал от жары, но на острове Льюис шел дождь, и в Глазго, где он пересел на «Airshuttle», чтобы лететь на остров Скай, тоже было дождливо. Лишь когда он переправлялся со Ская, стало сухо, и почти все время он просидел на палубе, изучая береговой пейзаж — зеленые луга и невзрачные белые домики, примечательные разве тем, что над каждой крышей возвышалось по две дымовых трубы. Едва он высадился на берег, как снова зарядил дождь. Впрочем, это его не смутило: догадываясь, какая погода его ожидает в Шотландии, он предусмотрительно запасся непромокаемой одеждой. Тогда он еще не мог знать, что шотландский дождь — это не признак плохой погоды. Шотландский дождливый день бывает солнечным и пасмурным. Хорошая погода — это когда светит солнце, плохая — когда небо затянуто облаками. Сегодня «плохая» погода неожиданно сменилась «хорошей». Дождь продолжался, но облака в считанные секунды разбежались, приоткрыв голубой просвет, откуда выглянуло нежаркое августовское солнце. После некоторых колебаний решив все-таки не снимать куртку, он увидел, что по асфальтированной дороге, спускающейся к пристани по склону невысокого холма, едет автомобиль. Это наверняка за ним. Приняв подъезжающий черный лимузин за «роллс-ройс», он занервничал и, понимая, что «роллс-ройс» — это не повод для волнения, тем не менее почувствовал учащенное сердцебиение, сухость во рту и ком в горле. Только когда машина подъехала к самому пирсу, стало понятно, что это не «роллс-ройс», а «бентли». По необъяснимым причинам ему тотчас стало легче, хотя «бентли» был, на его взгляд, ничем не хуже «роллс-ройса». Ожидая приглашения в машину, он нагнулся было, чтобы поднять рюкзак, но дверца распахнулась, и из автомобиля вышел водитель. На нем был серый костюм, светло-серые перчатки и форменная фуражка. Водитель двинулся навстречу, но, явно не собираясь ни произносить приветствие, ни обмениваться рукопожатием, целеустремленно поглядел в сторону и, вперив взгляд в коробки, произнес: «The wine». После чего открыл багажник и погрузил туда все три. Действовал он очень осторожно: коробки под дождем подмокли, и приходилось, чтобы они не развалились, придерживать их снизу обеими руками. Закрыв багажник, водитель сел за руль и нажал на газ, так и не удостоив приезжего ни единым взглядом. Меж тем «хорошая» шотландская погода опять испортилась. Солнце скрылось, с моря подул сырой ветер, дождь незаметно превратился в ливень — он забеспокоился, что водонепроницаемая экипировка его не спасет. Уже и сейчас было холодно, ноги промокли. Он попытался укрыться от дождя под козырьком кассовой будки. Придется ждать, ничего не поделаешь. Адреса ему не дали, все что у него было — это телеграмма, в которой сообщалось, что его встретят на причале, по прибытии вечернего парома. Вот он и приплыл на вечернем и, кстати говоря, единственном здесь пароме, понятия не имея, где его поселят и где живет тот, кто его сюда пригласил. Он знал только, что это шотландская резиденция одного знаменитого английского композитора, коллеги его патрона, композитора не менее знаменитого. Ради своей страдающей депрессиями жены англичанин переехал на юг Франции и пригласил немецкого коллегу погостить в пустующем доме. Англичанина звали Роберт Лич, но музыки Роберта Лича он никогда не слышал. В Германии Роберта Лича никто не слушает, а он и подавно. Можно было бы поискать в телефонном справочнике номер композитора и попробовать дозвониться, но таксофона поблизости не нашлось. А ведь на пристани должен бы быть телефон! — с досадой подумал он. Но телефона не было. Вглядываясь в даль, он видел лишь терявшуюся за травянистым холмом серую, обрамленную овечьими пастбищами асфальтовую ленту, вдоль которой не было не то что телефонов, но и домов. Дождь тем временем стих, и плотная, словно отлитая из бетона серая пелена растворилась, оставив на небе лишь несколько барашков. Сверху все еще капало, однако безнадежный ливень превратился в веселую морось, в водяной пыли играли солнечные лучи, и блуждающими огоньками вспыхивали там и сям радужные сполохи. Еще не успев осознать очередной перемены погоды, он увидел, как вдали вырастает огромная, роскошная радуга: словно триумфальная арка, она празднично освещала всю округу и была ничуть не менее эффектна, чем все то, что обычно видишь на экране телевизора, глянцевых открытках и рекламных плакатах. Но это был не экран телевизора, радуга была настоящая, как и черный «бентли» — вот он опять вынырнул из-за холма и плавно и бесшумно проехал прямо под ней, приближаясь к пристани. Машина вновь подкатила к самому пирсу, и из нее вышел все тот же водитель. Однако на сей раз он приложил руку к козырьку и сказал по-немецки, что его зовут Бруно, что он рад приветствовать на острове гостя и что господин Бергман ждет. «Я тоже рад, — отозвался гость. — Меня зовут Георг Циммер». Дождавшись, пока водитель подойдет поближе, Георг протянул ему руку, но тот уклонился от рукопожатия, нагнувшись за рюкзаком. Георг покраснел до ушей и, хотя водитель уже повернулся к нему спиной, несколько секунд держал руку протянутой. А затем, усевшись на заднее сиденье и вытянув ноги — благо места было достаточно, — задумался о тайной причине, заставившей Бруно манкировать рукопожатием. Из-за перчаток, наверное. Видимо, не принято пожимать руку шоферу, когда он в перчатках. Перчатку положено снять, иначе это невежливо. А шоферу перчатки снимать не следует. Впредь нужно быть осмотрительнее, внушал себе Георг, пока автомобиль удалялся от берега и сворачивал вглубь острова, не следует повторять прошлых ошибок. «А вы всегда были шофером?» — спросил он, чувствуя необходимость сказать что-нибудь вслух. «Нет!» — отрезал водитель. После столь лаконичного ответа Георг решил наслаждаться ездой молча. За окном тянулась гряда однообразных зеленых холмов: из таких, наверное, и состоит вся Шотландия. Не самый приятный пейзаж. Похож на север Германии, места его детства. Только холмов там не было, но даже если бы и были, это нисколько бы не прибавило ему любви к родному краю. В детстве, отчаянно гоняя на велосипеде по бескрайним окрестным полям и лугам, он называл его Зеленым Адом. Если бы местность была холмистой, то от велогонок пришлось бы отказаться. Или стать совсем уж отчаянным сорвиголовой. Но сейчас он не на велосипеде: черный «бентли» везет его по узкой дороге, в глубь одного из Гебридских островов. И он уже не мальчик, а молодой человек, новоиспеченный выпускник университета — смотрящий в будущее с надеждой, хоть и не без робости. Робость связана с тем, что после окончания кафедры германистики перед ним открылась только одна возможность — отнести диплом с очень убедительной квалификацией «Magister Artium» и, увы, гораздо менее убедительной оценкой «хорошо» сперва на биржу труда, а затем в отдел социального обеспечения. Впрочем, даже если бы в дипломе красовалось «отлично» (что на самом деле означает «хорошо», а «хорошо» означает «посредственно»), работники биржи труда все равно не смогли бы ему помочь, почему и направили в социальный отдел, который без проволочек согласился оплачивать квартиру (включая свет и отопление) и медицинскую страховку. Квартиру он делил с двумя бывшими сокурсниками, и поскольку договор об аренде был заключен с одним из них, Георг без труда заполучил бумагу, где указанная сумма арендной платы в два раза превышала реальную. По первым числам каждого месяца нужно было являться в социальный отдел Кройцберга (в бывшей больнице «Вифания» на Марианнен-плац), чтобы получать в кассе некую сумму — на карманные, так сказать, расходы. Итак, половина арендной платы, страховка и сумма на карманные расходы — такие деньги ему никогда и не снились. Пособие можно рассматривать как стартовую зарплату магистра, которая позволит трудиться над сборником стихов и авторефератом будущей диссертации, необходимым для того, чтобы подать на стипендию. Стихи текли свободно и легко, скоро даже нашлось одно небольшое издательство, с авторефератом же пришлось помучиться. Во-первых, ему не верилось, что можно на нескольких страницах внятно изложить суть еще не написанной диссертации, во-вторых, в автореферате нужно обосновать выбор темы и доказать, что работа принадлежит к числу «исследовательских desiderata». Пришлось лезть в словарь иностранных слов: как доказать, что твоя будущая диссертация — desiderata, когда не знаешь, что это такое? «Дезидерабельный — желательный», гласил словарь. Итак, desiderata — это исследования желательные, а не такие, которые оставляют желать лучшего; нечто такое, чего пока нет и появление чего желательно. «Дезидерабельна» ли его диссертация? — на этот вопрос предстояло ответить специальной комиссии. Тема ненаписанной диссертации выглядела так: «Мотив забвения в художественной литературе». Не найдя трудов по этой теме, Георг уверился в ее дезидерабельности. Профессор не только не возражал, но даже подбодрил будущего соискателя дружелюбным: «Что ж, весьма любопытно!» Георг решил заниматься забвением не только потому, что на эту тему нет исследований. Он был убежден, что забвение играет в изящной словесности ничуть не менее важную роль, чем память. Забвение многоаспектно. Во-первых, рецептивно-эстетический аспект, самый понятный и близкий: забвение читателем прочитанного. Естественным образом напрашивается следующий, генеративно-эстетический: забвение автором написанного. Он уже не столь понятен и близок — прочитано и забыто много, создан же всего один поэтический сборник, и каждая его строчка свежа в памяти. Скорее всего, с генеративно-эстетическим аспектом придется повозиться, хотя множество литераторов писали и говорили, что как только сдаешь рукопись, так сразу же все забываешь. У Георга были далеко идущие планы, касающиеся прежде всего второго аспекта: он не просто покажет, что писатель забывает собственные тексты. Он докажет, что письменные тексты только затем и пишутся — чтобы писателю было что забывать. И наконец третий аспект, мотивно-исторический. В нем вся соль, ибо Георг собирался учесть все существующие тексты с мотивом забвения, предполагая, что им несть числа. Правда, пока сколько ни искал, он так ни одного и не выявил. Пробегая глазами один за другим тексты в надежде встретить мотив забвения, он то и дело натыкался на мотив памяти. Но не защищаться же ему по теме «память». Вот уж чему точно несть числа… Нынче все кому не лень пишут диссертации о памяти, и написать еще одну значит допустить серьезную тактическую ошибку, загубить на корню карьеру и все остальное. Профессор сказал ему: «Не Мнемозина, а Лета!», и по его лицу скользнула лукавая улыбка. С Летой у Георга проблем не было, однако Мнемозина его встревожила, и смущенно бормоча: «Ну да, конечно, Лета», он подумал, что неплохо бы справиться насчет Мнемозины в «Словаре греческой и римской мифологии» Хунгера. С Летой все было и без словаря давно понятно; его детство прошло на эмсских берегах, а Эмс, каким он рисовался его детскому воображению, очень напоминал легендарную реку. Будучи маленьким мальчиком и совсем еще не разбираясь в мифологии, он видел в родном Эмсе реку забвения. Он подолгу просиживал на берегу: за спиной — пасущиеся коровьи стада и голая плоская равнина, перед глазами — вода с зеленоватым отливом, — и радовался, как младенец, ощущению легкости и пустоты. Он видел, как по широкому разливу проплывает его жизнь, как течение гонит его табели успеваемости и как они опавшими листьями кружатся по воде, видел легкое, будто из бамбука, черное пианино, видел красно-бурый плюшевый диванчик — тот, что стоит на кухне — и бархатный пуфик, на котором в очередной раз без спросу устроилась собака, видел черную кожаную перчатку отцовского протеза, торчащего из воды почти под прямым углом и, наконец, самого себя — некрасивого, тучного, с лоснящимися от бриолина волосами, зализанными на прямой пробор, — и все это плыло в сторону Эмсфельде, крупнейшего из ближайших населенных пунктов. И вот, проводив глазами свою жизнь, семью и себя самого, он становился легким, как птица, как один из стрижей, что летом снуют в воздухе, кружа над межами полей и лесными тропинками, и, переполняясь счастьем, забывал обо всем на свете. Забывал о пианино и табелях, забывал об отце и протезе, забывал о плюшевом диванчике, зализанном проборе, лоснящихся волосах и бархатном пуфике. Помнил только собаку и что все плывет куда-то к Эмсфельде. Перед глазами стояли эмсские воды, и почему-то вдруг вспомнилось, как однажды родители повезли его в Эмсфельде покупать костюм для конфирмации и как на обратном пути они заглянули в небольшую сельскую церковь, где были выставлены на всеобщее обозрение старинные кухонные очаги (считалось, что нигде во всем мире нет столь полной коллекции), — как вдруг лимузин резко затормозил, прервав ход его мыслей. Впереди струился вовсе не Эмс, а пролив, отделявший Льюис от следующего острова. Водитель вырулил к причалу, остановил машину и сообщил, что с минуты на минуту подойдет паром. Они оказались на противоположном конце острова, но, судя по всему, все еще не достигли цели. «Разве мы не остаемся на Льюисе?» — спросил Георг. «Нет, — ответил водитель, — Бергман живет на Скарпе». Затем он вышел из автомобиля и закурил. Пока он прохаживался взад-вперед по причалу, Георг сидел в автомобиле, радуясь, что не нужно ни о чем говорить. Сказывалось отсутствие опыта: он начинал слегка нервничать. Прежде Георг выезжал куда-нибудь только на каникулы. И вот первый раз в жизни ехал работать. Работу устроил ему приятель. Вообще-то говоря, как раз этот самый приятель и должен был ехать, но внезапно заболел и решил, что обязан подыскать себе замену. Георг, особо не раздумывая, принял предложение. Ведь работодатель — знаменитый композитор, да и работа не обременительная — для него, безработного германиста, лучше и не придумаешь. Композитору нужно помочь отредактировать мемуары, которые он собирается опубликовать в следующем году. Георг уяснил, что Бергман — очень известный композитор, но масштабов его известности не представлял, покуда не рассказал о поездке на Гебриды сокурснику, с которым при одном упоминании имени Бергмана чуть не случился сердечный приступ. Как только прозвучало имя «Бергман», бедняга резко побледнел (как будто кровь отхлынула от головы и мощным потоком двинулась по сосудам вниз). Слегка оправившись от потрясения, он торжественно объявил, что сказать о современном немецком композиторе Бергмане «известный» — это все равно что ничего не сказать. Потому что Бергман — это квинтэссенция современной немецкой музыки. Есть, правда, еще одна квинтэссенция, композитор по имени Нерлингер, но если Нерлингера считают великим только его поклонники, то величие Бергмана признает весь музыкальный мир, за исключением, естественно, обожателей Нерлингера. Он, сказал однокурсник, к обожателям Нерлингера не относится, но и Бергмана тоже не боготворит, и именно поэтому может с известной долей объективности и беспристрастия утверждать, что Бергман — самый значительный, а Нерлингер — второй по значению из ныне живущих немецких композиторов. И то, что Георг будет работать на Бергмана — это не какая-то заурядная работенка, а большая жизненная удача. Работать на Бергмана — это все равно что на Брамса. Или на Бетховена. Теперь уже Георгу стало дурно, и он почувствовал, как у него подгибаются ноги и сердце уходит в пятки. Приятель, предложивший ему работу, предупреждал, что Бергман — знаменитость. Но о Брамсе и Бетховене он и не заикался. К брамсам и бетховенам он не готов. Как и о чем с ними разговаривать? Перед отъездом Георг заскочил в библиотеку музыковедческого факультета Свободного университета, чтобы хоть как-то подготовиться. На вопрос, нет ли у них чего-нибудь о Бергмане, композиторе, — библиотекарша ответила, что за последние тридцать лет ни о ком из ныне живущих немецких композиторов не опубликовано столько, сколько о Бергмане. Не говоря уже о том, что ни один из ныне живущих немецких композиторов не сравнится с Бергманом количеством публикаций. В их каталоге около трехсот наименований «Бергман, о нем» и более ста двадцати сочинений Бергмана, включая, разумеется, журнальные и газетные статьи, выступления и прочее. Для первоначального ознакомления с темой она рекомендует ему заглянуть в специализированные словари, в первую очередь в «МПН» и в «Гроува». Оказалось, что «МПН» — это «Музыка: прошлое и настоящее», а «Гроув» — «Музыкальный словарь» Гроува. В обоих изданиях обнаружились обширные очерки жизни и творчества композитора, причем выяснились две немаловажные детали: во-первых, обе статьи о Бергмане длиннее статей о Нерлингере, во-вторых, Бергман тоже родился на Эмсе. Оказывается, он родом из Шредеборга, небольшого городка, до Эмсфельде оттуда — рукой подать. Георг возликовал: у них общие корни, они дышали одним воздухом, росли под одним небом. Правда, Бергман недолго прожил в Шредеборге: родители его переехали сначала в Берлин, а потом, когда он был еще подростком, эмигрировали в Швецию: отец Бергмана подвергся преследованиям за свои социал-демократические взгляды. Когда война кончилась, Бергман не вернулся в Германию, а перебрался в Италию. Некоторое время жил во Флоренции, затем переехал на Сицилию, где и живет по сей день — близ Сан-Вито-Ло-Капо, небольшого приморского городка, среди холмов и оливковых рощ, на собственной вилле. Из Шредеборга — в Сан-Вито-Ло-Капо! А теперь вот и Гебридские острова, где Бергман, судя по всему, обычно проводит лето. Георг почувствовал восторг. Он восторгался не только сицилийской виллой и Гебридскими островами, но и списком опубликованных сочинений, занимавшем в «Гроуве» несколько столбцов. У Георга списка публикаций не было. Все, что он мог на текущий момент предъявить — это автореферат ненаписанной диссертации да стихотворный сборник, который выйдет в крохотном берлинском издательстве «Аусвег»