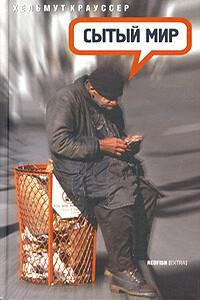в которой Хаген теряет свою последнюю связь с буржуазным миром, громит квартиру друга и размышляет об эстетике отбросов
В руке пакет из дешёвого супермаркета «Тенгельман», я стучусь.
Есть и звонок, но он издаёт такой бинг-банг — бинг-бонг!
Хорошо было бы высадить эту дверь. Проломить надвое, чтобы половинки косо повисли на петлях, чтобы — зияющий провал и краска лоскутами. Ей было бы к лицу.
Хоть бы её не оказалось дома! Пусть бы она умерла! Молю судьбу! Да минует меня чаша сия!
Злость от безвыходности!
Открывает Ангела.
Как я ни молил — всё напрасно. Никакого телекинеза не существует. Иначе бы у неё — при моём-то страстном желании — по меньшей мере рука отвалилась.
Сейчас полдень. Я ещё не накопил сил, чтобы хоть что-нибудь противопоставить этой зверюге.
Уй — и как такое фырканье может исторгать столь чувственная пасть!
— Опять ты?
— Д-да, — заикаюсь я. — Пожалуйста, пусти меня повидаться с Вольфгангом, моим старым добрым другом.
Её глаза гневно сужаются, рот сжимается в белую щель. Как она меня презирает! Даже на шаг не отступила от двери, избороздила всего острым взглядом — сверху вниз и обратно. Стою, как животное в зоопарке, с головы до ног обсмотренный.
Это подточило мои силы, и без того изнурённые.
— Вольфганг! — громко возопил я через её плечо. — Вольфганг!
Мой вопль эхом разнёсся по всей их съёмной квартире. Ангела ответила издевательской усмешкой.
Я раздавлен, просто по полу размазан изобилием её плотских прелестей. Пыль жрать проклят и приговорён. О, Ангела у нас красавица, ясное дело! Картинки на обложках глянцевых журналов учат нас, что именно это и есть красота. Стройная, блондинистая — обстругана гладко, без заусениц. Длинношеяя тварь благородная. Все подонки ликуют. Она и туготитяя, она и узкощелая! Ух ты! Ах ты!
Но до чего же ледяная. Вблизи такой женщины у меня если что и затвердеет, так лишь от холода.
Издаёт шипение:
— А тебе не кажется, что ты появляешься здесь чаще, чем хотелось бы тебя видеть?
Ах — что ни слово, то наговор! Я давно перестал бывать здесь часто, последний раз заглядывал недели две назад — и так же ненадолго, как и без всякой охоты.
Но я не отваживаюсь на ответ и опускаю голову — просто выражений подходящих не нахожу, чтобы достойно с ней контактировать.
Кто-то в глубине квартиры выключает проигрыватель. По тёмному коридору медленно плетётся Вольфганг. Так, значит, он дома! И кажется, он рад меня видеть. Это утешает.
— Хаген! Это ты! Входи же, что ты стоишь!
Ангела, его жена, вскинула голову, метнула в него через плечо испепеляющий взгляд. Вольфи вздрогнул. Должно быть, увидел в её лице что — то ужасное.
Я собираю всё наличное мужество и прокладываю себе путь, мягко отодвигая бабу в сторонку. Она гневно пыхтит и с шумом удаляется в спальню. Хлопает дверью, обиженная. Но не стсит обольщаться, это, как всегда, не более чем притворный жест любезности… Я-то знаю, сейчас же вернётся и продолжит свою войну на уничтожение. Я должен быть истреблён — стёрт с лица земли. Выдавлен, как прыщ. Только брызги полетят! Мне, «нежизнеспособной сволочи», как она меня называет, нет здесь места, ни полсантиметрика квадратного.
Стремиться уничтожить нечто и без того нежизнеспособное — в этом мне видится немалый парадокс. Ну да.
Вольфганг подаёт мне руку.
— Как дела?
— Терпимо.
До чего же бесцветная у них квартира! Чёрный ковёр на полу, чёрная мебель. Белые стены без картин. Много всякого звукотехнического оборудования разбросано там и сям. Это Вольфганг записывает свои амбициозные четырёхдорожечные композиции. Ангела пометила свои территориальные притязания жуткими цветочными вазами; они торчат в каждом углу, свешивая наружу своё мёртвое содержимое.
— Не было ли для меня почты?
Он говорит, что нет, и с сарказмом добавляет, что больше ничего и не будет, если не считать рекламных проспектов.