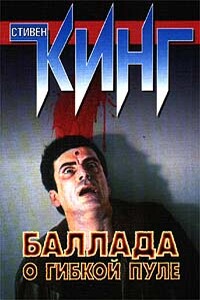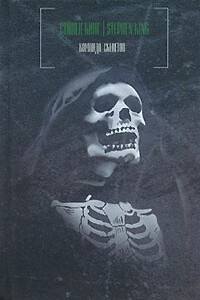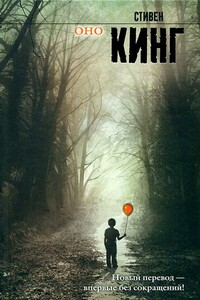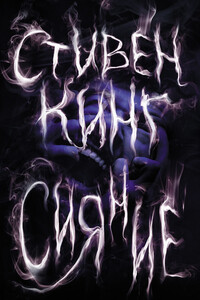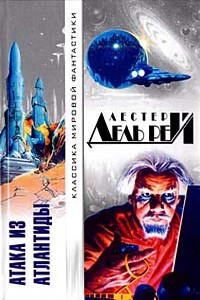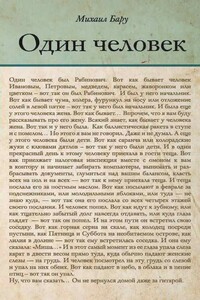Стивен Кинг
Свадебный джаз
В 1927 году мы играли в одном из торгующих спиртными ресторанчиков Моргана в Иллинойс, оттуда до Чикаго миль семьдесят. Глухая провинция, миль на двадцать в округе не сыщешь другого порядочного города. Но и здесь хватало фермеров, которым после жаркого денька в поле страсть как хотелось что-нибудь покрепче «Мокси» и девочек, которые любили попрыгать под джаз со своими липовыми ковбоями. Попадались и женатые (уж их-то всегда отличишь; могли бы и не снимать колец) — они удирали подальше от дома, туда, где их никто не знает, чтобы покрутить со своими не вполне законными лапочками.
Это было время джаза, настоящего джаза, — тогда музыканты не старались оглушить. Мы работали впятером — ударные, корнет, тромбон, пианино, труба — и делали неплохую музыку. До нашей первой записи оставалось еще три года, а до первой киношки, которую мы озвучивали, четыре.
Мы играли «Бамбуковый залив», когда вошел здоровенный детина в белом костюме и с трубкой, загогулистой, как валторна. К тому времени наш оркестрик был слегка под газом, но публика уже совсем перепилась и так наяривала, что пол дрожал. Сегодня она была настроена добродушно: ни одной драки за целый вечер. Пот с моих ребят лил рекой, а Томми Ингландер, хозяин, все подносил да подносил виски, мяконькое, как кошачья лапка. На Ингландера приятно было работать, ему нравилось, как мы играем. Так что, ясное дело, я его тоже уважал.
Малый в белом костюме сел за стойку, и я про него забыл. Мы закончили круг «Блюзом тетушки Хагар», который шел тогда в глубинке на «ура», и нас наградили громкими криками. Мэнни опустил трубу, и его физиономия расплылась в улыбке; когда мы уходили с эстрады, я похлопал его по спине. Весь вечер на меня поглядывала рыженькая, а я всегда питал слабость к рыжим. Мы встретились глазами, она слегка кивнула, и я стал пробираться через толпу, чтобы предложить ей выпить.
На полдороге передо мной вырос детина в белом костюме. Вблизи он выглядел хорошим бойцом. Волосы у него на затылке топорщились, хотя, судя по запаху, он вылил на них целый флакон косметического масла, а глаза были блеклые, со странным отблеском, как у глубоководных рыб.
— Надо поговорить, выйдем, — сказал он.
Рыженькая надула губы и отвернулась.
— Потом, — сказал я. — Дай пройти.
— Меня зовут Сколлей. Майк Сколлей.
Я знал это имя. Майк Сколлей был мелкий рэкетир из Шайтауна, он зарабатывал на красивую жизнь, провозя выпивку через канадскую границу. Крепкий напиток из той самой страны, где мужики носят юбки и играют на волынках. В свободное от розлива время. Несколько раз его портрет появлялся в газетах. Последний такой случай был, когда его пытался пристрелить другой висельник.
— Здесь тебе не Чикаго, дядя, — сказал я.
— Я с друзьями, — сказал он. — Не рыпайся. Выйдем.
Рыжая опять посмотрела на меня. Я кивнул на Сколлея и пожал плечами. Она фыркнула и показала мне спину.
— Ну вот, — сказал я. — Спугнул.
— Такие пупсики идут в Чикаго по пенни за пачку, — сказал он.
— Пачка мне ни к чему.
— Выйдем.
Я пошел за ним на улицу. После ресторанной духоты ветерок приятно холодил кожу, сладко пахло свежескошенной люцерной. Звезды были тут как тут, они ласково мерцали в вышине. Чикагцы тоже были тут как тут, но на вид не шибко ласковые, а мерцали у них только сигареты.
— Есть работенка, — сказал Сколлей.
— Вот как?
— Плата две сотни. Разделишь с командой или придержишь одну для себя.
— Что надо делать?
— Играть, что же еще. Моя сестренка выходит замуж. Я хочу, чтобы вы сыграли на свадьбе. Она любит диксиленд. Двое моих парней сказали, вы хорошо играете диксиленд.
Я говорил, что на Ингландера приятно было работать. Он платил нам по восемьдесят зеленых в неделю. А этот предлагал в два с лишним раза больше за один только вечер.
— С пяти до восьми, в следующую пятницу, — сказал Сколлей. — В зале «Санз-ов-Эрин», на Гровер-стрит.
— Переплачиваешь, — сказал я. — Почему?
— Есть две причины, — сказал Сколлей. Он попыхал трубкой. Она явно не шла к его бандитской роже. Ему бы прилепить к губам «Лаки Страйк» или, положим, «Суит Капорал». Любимые марки всех дармоедов. А с трубкой он не походил на обыкновенного дармоеда. Трубка делала его одновременно печальным и смешным.