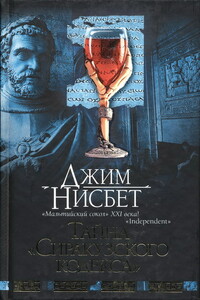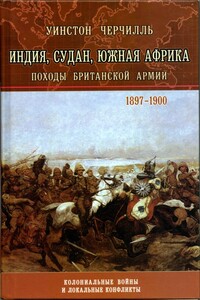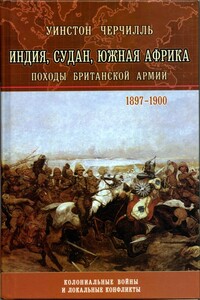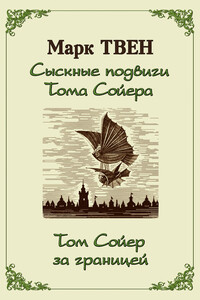Ее зовут, как мать Христа, а живет она в южном Стокгольме, в Салеме, который отличается от Иерусалима пятью буквами.
Забытое богом место, думает она, поднимаясь по велосипедной дорожке, ведущей к серому многоквартирному дому. Дом погружен во тьму – снова отключили электричество, в третий раз за неделю; домофон не работает, и она достает ключи.
Руки дрожат – она сама не знает, от страха или от предвкушения.
В целлофановом пакете у нее в руке – семьсот пятьдесят граммов контрабандного русского спирта, а также литр жидкой хлорки.
Мария отпирает дверь квартиры и входит в темную прихожую. Ищет стеариновые свечи, ставит их на столик в гостиной, зажигает.
Вынимает телефон. Напоследок ей хочется поговорить с кем-то, кому она доверяет, а Ванья – единственная, кто, возможно, ее поймет. Ванье случалось опускаться на ту же глубину.
Это плохо – сравняться с кем-то в том, что ты достиг дна. Это болото, слепая елань бессмысленности, и чем больше трепыхаешься, тем глубже увязаешь.
Гудки плывут, но Ванья не отвечает.
Она ждет. Звонит Ванье еще несколько раз. Безуспешно.
Но ей необходимо с кем-нибудь поговорить, и за неимением других – пускай будет Исаак. Они не виделись со времени его последнего мастер-класса в «Лилии», да и знают друг друга не так уж хорошо. Но он ей нравится. Исаак берет трубку прямо перед четвертым гудком.
– Привет, Мария! – Она слышит, что Исаак где-то на улице. Ветер задувает в микрофон. – Как дела?
От его голоса озноб немного отпускает, и Мария бросает взгляд на целлофановый пакет.
– Отлично, – врет она. – Как раз закончила автопортрет, вот!
На том конце фоном шумят волны, хохочут чайки.
Как непохоже на ее собственный саундтрек.
– Слушай, здорово! И нос получился? – Он смеется. Мария вспоминает, как они часами старались правильно передать ее кривоватый нос.
– Да, думаю, получился, – произносит она, и тут на нее накатывает желание быть честной и рассказать, каково ей на самом деле.
Рассказать об усталости и темноте. И о том, что она собирается сделать.
Но ничего не выйдет. Слова – это стена между ней и миром; ее слова покажутся Исааку набором банальностей.
Ее реальность – не его. Что для нее Эверест, для него – невысокая горка.
– Обалденно получился. – Она давит в себе крик, норовящий прорваться слезами, и отводит трубку ото рта, чтобы Исаак не слышал ее отчаяния.
Как же ей нужно, чтобы он расслышал ее немой крик о помощи! Но Исаак остается глух, и озноб снова пробирается в тело – медленно, но верно. Ничего она не рисовала. Ни единой линии не провела карандашом. Не хочется. Его курс ее не вдохновил, хотя это был отличный курс.
Ей вообще ничего не хочется.
Но она рассказывает о своих великих планах, о том, что ступила на путь, который куда-нибудь да приведет.
Вранье, всё вранье.
И она заканчивает разговор, ощущая пустоту и холод.
Моль мечется, влетела в пламя свечи. Вспыхнула, упала на стол. Обожженная, но еще живая; пусть останется на столе.
Мария забирает одну свечу с собой в комнату, достает дневник.
Никто не должен прочитать ее записи; вернувшись на диван, Мария вырывает листы из дневника, один за другим, и сминает их.
Воздух вдруг словно становится гуще. На кухне щелкает, потом доносится жужжание. Это холодильник. Дали электричество.
Мария задувает свечи, включает торшер и идет в прихожую, чтобы достать из кармана куртки кассетный плеер. В тот момент, когда она кладет плеер и скомканную бумагу на стол, торшер гаснет. Электричество снова отключили.
Сейчас она сделает себе больно в последний раз.
Мария Альвенгрен смешивает коктейль в темноте, в забытом богом месте, которое всего пятью буквами отличается от Иерусалима. Она не проливает ни капли.
Сто миллилитров водки, сто миллилитров жидкой хлорки.
Ее не рвет, когда она выпивает смертельный коктейль. После второго стакана тоже не рвет. И после следующих.
Она чувствует себя, как ребенок накануне Рождества. Как ребенок, чьи неугомонные пальцы трогают и трясут коробки, обернутые соблазнительной блестящей бумагой.