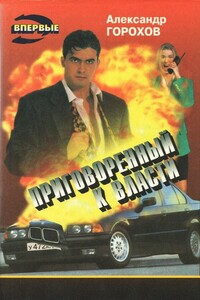Когда мы подошли к какому-то чужому дому, снег начал падать по-новому. Множество усталых старых туч столпились над нашими головами и, как им заблагорассудилось, извергли сразу же огромную массу снега.
То не были обыкновенные хлопья снега, они падали прямо вниз большими слипшимися между собой льдинами, они тут же сжимались, быстро опускаясь вниз. И были они не белыми, а серыми. Мир казался тяжелым, как свинец.
Мама внесла в дом чемоданы, потопала ногами на коврике у двери и стала говорить, говорить и говорить о том, как, по ее мнению, весело, что все выглядит таким другим и непохожим…
Я же не произносила ни слова, так как чужой дом мне не понравился. Я стояла у окна и смотрела, как падает снег, но он был ошибочный, не настоящий. Он был не таким, как в городе. Там его белыми и черными хлопьями заносит ветром на крышу или же он падает, божественно спокойный, описывая красивые дуги над окном гостиной. Весь ландшафт казался также опасным. Он простирался, обнаженный и открытый, и заглатывал снег, а деревья стояли черными рядами, уходившими в никуда. На краю света виднелась узкая лесная опушка. Все было ошибочным и не настоящим. В городе должна быть зима, а за городом лето. Мы же во всем пребывали на ошибочной, не настоящей стороне.
Дом был большой и пустой. Здесь оказалось слишком много комнат. Все выглядело очень чисто, и ты не слышал своих собственных шагов, так как ковры были большими и мягкими, как мех.
Когда ты стоял в какой-либо комнате, издалека виднелась целая анфилада помещений, и это производило грустное впечатление: похоже на поезд, который вскоре должен отойти и выключает свои огни над перроном. Самая последняя комната была темной, будто ты находился внутри туннеля, без единого слабого мерцания золотых рам и блеска висевшего высоко на стене зеркала. Все лампы светили мягко и туманно, образуя небольшой кружок света. И не было слышно шагов, когда ты бежал.
На улице все обстояло точно так же. Мягко и неопределенно. А снег только и делал, что все падал и падал.
Я спросила, почему мы живем в чужом доме, но не получила сколько-нибудь вразумительного ответа. Та женщина, что готовила еду, почти никогда не показывалась и не болтала.
Она незаметно входила, а потом так же незаметно выходила. Дверь снова беззвучно закрывалась и долгое время раскачивалась, пока все снова не стихало. Я демонстрировала свою неприязнь к дому тем, что не произносила ни слова.
После полудня снег стал еще более серым и падал хлопьями, прилипая к стеклам окон, и стекал вниз и снова появлялись из сумерек хлопья снега, и все повторялось сначала. Они походили на серые руки с сотнями пальцев. Я попыталась все время смотреть на большую снежинку, пока она опускалась вниз; она как бы распустилась и падала все быстрее и быстрее. Затем я уставилась на следующую, и она тоже падала, и еще на следующую, следующую… и в конце концов у меня заболели глаза и я испугалась.
Во всех комнатах было жарко, тут располагались комнаты для множества людей, но нас было только двое. Я ничего не сказала.
Мама радовалась, она бегала вокруг и кричала:
— Как мирно и спокойно! Как тепло!
А потом она уселась за большой полированный стол и принялась за работу. Мама убрала кружевную скатерть, разложила все свои иллюстрации и открыла бутылочку с тушью. Тогда я поднялась вверх по лестнице. Та трещала и скрипела и издавала множество звуков, которые бывают у лестниц, когда целая семья ходит по ним долгие годы. Это хорошо, так и надо делать. Тут уж знаешь точно, какая ступенька трещит, а какая беззвучна, и на какую надо встать, если не хочешь, чтобы тебя услыхали. Единственное — эта лестница была не наша.
Ею пользовалась совсем другая семья. Поэтому я считала эту лестницу жуткой. В верхнем этаже точно так же мягким светом горели все лампы, и во всех комнатах было тепло и чисто, а двери открыты. Только одна единственная дверь оказалась заперта. Там было холодно и темно, и там находился чердак, где в ларях и в сундуках лежали вещи чужой семьи, а мешочки, защищающие вещи от моли, висели длинными рядами и чуть заиндевели сверху.