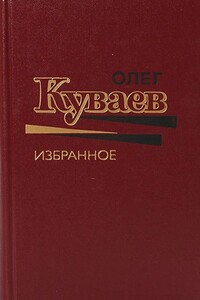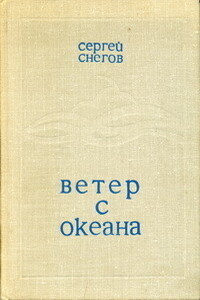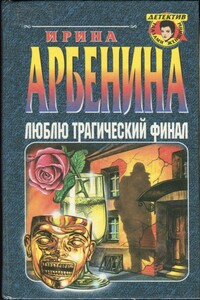Одиннадцатая станция Большого Фонтана славится в Одессе своей тишиной. Прямо скажем — тишина там весьма относительная. Все время идет крупный разговор, причем меньше всего говорят сами одесситы. Зато киевляне, например, орут за здорово живешь… Пластинка кончилась, старая, заезженная пластинка, но мотор работает: пых-пых-пых… «Вино, вы понимаете, виноградное настоящее вино в Одессе пьют кружками?! В Грузии за такие дела — режут кинжалами. Ну, не очень режут, но все ж таки немножечко режут, дают понять, одним словом… Ясно?»
Одиннадцатая станция — очень милая станция. До моря там довольно сложно добираться — надо идти. А когда вы приезжаете на Черное море, вам его надо сразу — на блюдечке с голубой каемочкой. Вам хочется модных дельфинов и синей-синей, голубой и зеленой воды, в которую вы можете положить свое бренное тело и плыть. Одесситы — их, настоящих, нынче маловато, но те, которые есть, лениво усмехаясь, говорят:
— Чюдак, поплыл в Турцию…
А ты плывешь, оглядываясь на усыпанный человеческой икрой берег, и отрешаешься от всего — скажем, и от берега тоже.
Одиннадцатая станция… Чудесная станция.
В тридцатые годы по пляжу ходил толстый волосатый Володя в нелепых трусах до колен. Его называли Наркомпляж.
— Слушай сюда, — говорил Володя, — или ты поплывешь, или не поплывешь. Считаю до трех!
Он говорил «трьох». Никто не мог понять, что ему, собственно, было нужно. Однажды я сказал своему приятелю — тощему, оголтелому и невероятно злому:
— А может, он несостоявшийся пловец?
— Ха! — сказал Васька, — Ты видел, как он плавает?
— Я же не о том.
— Тогда заткнись. Володя — обычный «волосан». Бабу ему нужно.
Насчет баб мы в свои пятнадцать, понимали еще очень смутно. И я, и Васька. Но мне кажется, что, считая до «трьох», Володя-Наркомпляж думал не о бабах. Насколько я тогда понимал, их у него было навалом, и он к этому относился по-мужски. Он был Воспитатель. Именно с большой буквы. Толстый, загорелый, заросший волосами — он ходил по пляжу и швырял мальчишек и девчонок в воду.
— Считаю до трьох! — орал он и швырял этих сморчков в теплые и ласковые воды Черного моря.
Иногда он, на правах директора пляжа, брал лодку, сажал в нее пяток юных и бледнолицых и увозил их метров на триста-пятьсот от берега. И там швырял. «Считаю до трьох!»
На берегу стонали, визжали и орали бледнолицые мамаши и строго выражались ответственные папаши. А там — в этом море, где плыть и плыть, не тоня, а захлебываясь от восторга, барахтались ребятишки. Потом Володя подбирал их в лодку, привозил на берег и раскладывал сушиться.
Почесывая выпирающий из трусов волосатый живот, он уходил в свою конторку, а через полчаса опять раздавался его хрипловатый голос:
— Считаю до трьох!
Одиннадцатая станция — чудесная станция. Там всегда — до войны по крайней мере, было очень тихо. Она мне нравится и сейчас. С оговорками, конечно. Я по-прежнему люблю уплывать далеко в море и люблю, хоть изредка слышать:
— Чюдак, поплыл в Турцию…
Но мне, когда я плыву, не хватает: «Считаю до трьох!».
Не знаю, наверное, это банальный конец рассказа. Володю-Наркомпляжа расстреляли немцы на его родном берегу и, стоя лицом к морю, он крикнул:
— Ну, вы! Считаю до трьох!
На счете «три» — он упал в свое море.
1991 г.