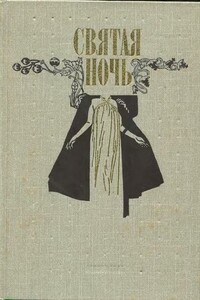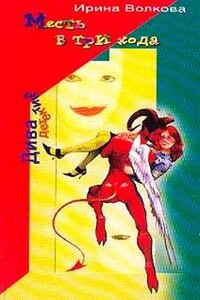По весне, когда над старым двором пролились первые дожди, сошел снег с дальних сопок, от реки потянуло смолой и соляркой, воздух странно — как прежде — посинел и загустел от детских криков, шелеста шин по лужам, цоканья каблучков, велосипедных звонков, кошачьих концертов, смеха, обрывков фраз, кое-как слепленных голубиным пометом, — по главной улице прошествовала настоящая лошадь, громыхая телегой с пустыми бидонами и оставляя стынущие на асфальте яблоки навоза. Как и прежде, за телегой с лаем и визгом бежали собаки и мальчишки, норовя пнуть эти самые яблоки и пристроиться возле бидонов, а возница в телогрейке сердился и взмахивал вожжами…
Уборщица застала у окна врасплох: я обернулся на грохот швабры о ведро и с ужасом понял, что рабочий день кончился, пора домой.
Дверь долго не открывали — я надавил кнопку снова. Наконец за дверью завозились и притихли: меня изучали в глазок. Я отошел, так, чтобы были видны коробка с тортом и яркий пакет, в котором без труда угадывалась бутылка вина. К вопросу «кто?», да еще баском, я не был готов. Не говорить же, в самом деле, что Робинзон пожаловал к Пятнице. Я зачем-то приподнял коробку с тортом, глупо улыбаясь и лихорадочно вспоминая отчество хозяйки.
«Ма, там тебя, кажется», — сообщил за дверью сынок.
В глубине квартиры коротко спросили, тот же ломкий басок ответил, что «хахаль, кажется». Паршивец! Неужели у Оли-Пятницы такой большой сын? Она говорила о нем, но вскользь, с неохотой. По легким шажкам и наступившей паузе я догадался, что теперь к глазку припала хозяйка. Я поклонился.
— Хорош, — оценивающе пощурилась в проем Оля, лязгнув дверной цепочкой. — Ну, проходи, коли пришел… Только, чур, недолго.
Прическа у Оли сбилась, челка растрепалась, отчего личико еще больше округлилось, руки по локоть были мокрые и красные, косметики ноль, старое трико и шлепанцы на босу ногу. Но глядела королевой, не без вызова: видал?! Ну и плевать, мол, трудовые будни — праздники для нас. Вообще-то надо было уходить. Но как раз сегодня я не желал быть «хахалем». Я снял плащ, повесил на знакомый крючок, прошел с гостинцами на кухню и уселся на табурет — нога на ногу. Под столом по своим делам пробежал озабоченный таракан. Возле плиты линолеум вытерся — невозможно было разобрать рисунок. Из комнаты донеслись взрывы рок-музыки.
— Четверг же, — словно читая мои мысли, тихо сказала Оля. — Ты что, совсем уработался там?
Она прыснула в ладошку, и я осознал, что именно меня в ней тянет. Женское в Оле-Пятнице вполне мирно уживалось с девчоночьим, острые ключицы с округлостью прочего, прысканье в ладошку — с продуманным флиртом. Она и грешила-то как-то несерьезно: то пугая, то играя…
— Чтоб четверг не отверг, — я извлек из пакета бутылку болгарского сухого и поставил на стол. Он был уставлен грязными тарелками. Пахло жареной рыбой. Кран капал и подтекал, вокруг него уже образовался ржавый кружок. К мусорному ведру прислонилась пустая бутылка болгарского сухого — с прошлой пятницы. Слабеющее солнце било вкось, высвечивая на стекле толстый слой пыли и отвалившуюся замазку.
— Борька, сволота, посуду не помыл, а! — хозяйка решительно прошлепала в комнату сына.
Музыка смолкла. В коридоре возникла раскрасневшаяся Оля, вслед ей что-то басили.
— Поговори мне, еще получишь! — огрызнулась на ходу Оля.
Она была прекрасна, как физкультурница. Дать ей весло, она бы разнесла городской парк культуры и отдыха к такой-то бабушке.
— Нет, ты подумай, ему слово, он тебе десять! Свинья, троечник несчастный! Погоди, я тебе устрою лагерь Саласпилс! — размышляя вслух, Олечка ворвалась на кухню, с удивлением обнаружив меня на табурете.
— А давай посуду помою, — привстал я.
— Сиди уж, — задохнулась от моей наглости хозяйка. — Тебе чего здесь, распивочная, да? По четвергам, да? Вот что, мужчина. Забирайте бутылку, кафе закрылось. Здесь граждане живут, дети. По четвергам рыбный день! Ну? Кому сказано? Освободите помещение, понятно! — не на шутку разошлась хозяйка. Впрочем, я и себя-то с трудом узнавал, что уж тут говорить об Оле-Пятнице.