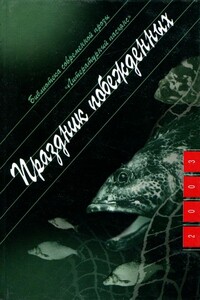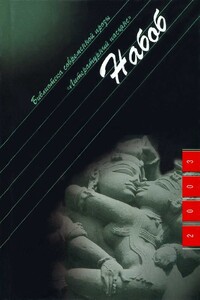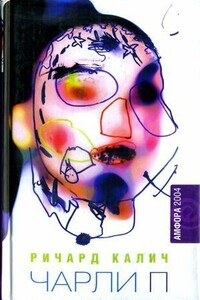Из письма мамы к дедушке. 1929 г. Январь. Крым. Керчь.
…папочка, то, что я узнала о жизни твоей, буквально потрясло меня, оказывается, наш дом забрали, и ты совсем один, брошенный всеми, ютишься в какой-то конуре, а главное, что больше всего убивает меня, так это — проклятые диспуты. Папочка, у тебя больное сердце, а тебя, как пишет Сашенька, усаживают на телегу и под хохот и улюлюканье везут в рясе через весь городок, и ты выступаешь на этих проклятых диспутах — «есть ли Бог?». Папочка, не позволяй глумиться над собой, брось всё, ты много лет отдал церкви и имеешь полное основание прожить старость со своими детьми в покое. Папочка, приезжай ко мне в Керчь. Я работаю старшим инженером на большом консервном заводе, квартира у нас с Петей большая, солнечная, у самого моря — ты ведь любишь ловить рыбу, так вот, я договорилась с греками (у нас в Керчи почти все рыбаки греки), они научат тебя ловить камбалу и кефаль. Мы купим тебе большую лодку, а Петя говорит, что на лодку можно будет установить мотор. Папочка, вообрази только себе — настоящий керосиновый мотор…
Из письма дедушки к маме. 1929 г. Февраль. Могилевская губ., местечко Коханово.
…Безмерно рад приглашению твоему, Валечка, но в Керчь я не поеду. Не оставлю я паству свою в забвении, а храм без служителя. Когда храм был в чести и славе, я служил в нем, буду служить и сейчас, когда храм в великом гонении. Теперь о житии своем. Приятеля моего Юзефа — помнишь раввина из синагоги, с которым мы вечерами под нашей яблоней, за самоваром философствовали и который угощал вас, детей, мацой, — уж месяц как увезли, и вестей о нем никаких. Скорблю и молюсь о нем. А меня пока Бог миловал. Дом наш заняли, живу в сторожке у церкви, иконы кое-какие спас, библиотеку отдали, а больше мне ничего и не надобно. Не одинок я, Валечка, а с паствой своей, и присматривает за мной хроменькая Сашенька, и вовсе она не юродивая, припадки у нее стали, слава Богу, редки. Валечка, не осуждайте нашу матушку, поймите и простите ее, время пришло такое, она была первой красавицей в губернии, она моложе меня на восемнадцать лет, и кто виноват, что вскружилась у нее голова и полюбила она героя комиссара с авиаторского полка. Прощаю ее и молюсь о ней. А вы, дети мои, не майтесь, вовсе вы не оставили меня, а вылетели из гнезда в мир, так и должно быть, и я радуюсь вам. Более всего я радуюсь, что приучил вас к труду, — это благо. Вы у меня умеете ходить за плугом, умеете сеять, жать, ухаживать за пчелами, досматривать животных тоже умеете. Средь наших болот и песчаников, — вспомни, Валечка, — земли у нас тяжелые, я научил вас в оранжереях выращивать ананасы. Я горжусь вами и знаю, что любой из вас, будь он даже дворник, так это будет самый великолепный дворник, и улицы у него будут самые чистые.
Есть у меня большое горе, но в этом не вы, а я виновен. В обиде я на себя и, уподобляясь Иову, гневлю Господа речами непристойными. За что, спрашиваю я, Господи, ты так наказал меня? Чем виновен я, раб твой, что ты дал мне детей неверующих? Молюсь я, Валечка, и свято верю, Господь простит мне грехи мои, и внуки мои придут к Нему…
ОТ АВТОРА:
Это было последнее письмо. Когда мама получила его, дедушки уже не было. Он умер в клубе в разгар диспута, от остановки сердца. Прихожане местечка Коханово похоронили его перед входом в храм, в котором он служил.