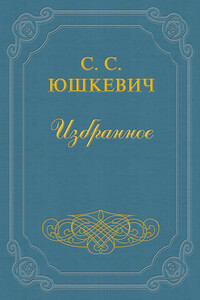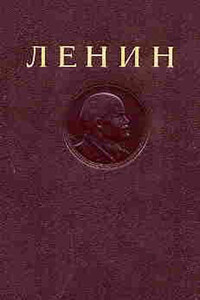Это было поздним летом, в 1941 году.
Утром меня разбудил громкий голос. В комнату влетели отрывистые слова:
— Граждане… города… Ленинграда…
Что-нибудь случилось? Радио на площади говорило громко, отчётливо. Я сразу вскочил с постели, подбежал к открытому окну. Мы жили на восьмом этаже. Из окна, сверху, я увидал крышу соседнего дома, а на ней — похожие на растопыренные пальцы серые зенитки. И я успокоился. Ничего особенного не случилось — просто восемь часов утра, и радио повторяет, как всегда, правила противовоздушной обороны. А эти правила я уже знал наизусть.
Я ещё раз взглянул на зенитки, около которых по крыше ходили красноармейцы. Поглядел на окна соседнего дома. Странные они теперь во всём Ленинграде стали — все клетчатые. Мы с мамой тоже заклеили все наши окна полосками бумаги крест-накрест, на случай, чтобы взрывная волна от фашистской бомбы не вышибла нам стёкла. Я отошёл от окна и крикнул:
— Мама!
Никто не отозвался. На столе стояли кофейник, сахарница, моя кружка с нарисованным котом в шляпе, тарелка с бутербродами. Рядом с тарелкой лежала мамина записка:
«Юля, надолго не отлучайся».
С тех пор как началась война, всё стало по-другому. Прежде мы с мамой вместе завтракали, потом расходились. В три часа опять встречались, обедали вместе. А теперь… Где сейчас мама? Она училась в медицинском институте, кончала его. Может, она свой докторский диплом пошла получать?
Я принялся завтракать. Кофейник не стал подогревать, ел бутерброды стоя, слушал, что рассказывает радио о зажигательных бомбах, а сам думал, что конец августа, скоро должны бы занятия начаться. Я в четвёртый класс пошёл бы… Но сейчас школьников увозят из Ленинграда. Из нашего дома почти все ребята эвакуировались, в тыл уехали. И со мной мама каждый день разговор об отъезде заводит. Только я никуда не хочу ехать.
«Не поеду, и всё… Буду Ленинград от фашистов защищать. Воздушных налётов я не боюсь. Даже когда бомба на нашей мостовой разорвалась — засвистела и грохнулась о мостовую, будто камень с неба упал, — я и тогда не испугался. Десятиклассник Саша из нашего дома мне даже сказал: „Молодец, Юлька! Ты, я вижу, человек хладнокровный!“ Да, я человек хладнокровный и никуда не поеду, что бы мама ни говорила… Но что за шум на улице?»
Радио молчало. А снизу в комнату долетал топот, барабанная дробь. «Наверное, войска идут на фронт!» — решил я и побежал на улицу.
Но по улице шли не войска.
По широкой мостовой проходили очень быстро, почти бежали, большими отрядами школьники. Они шли с заплечными мешками, узелками, чемоданами.
Впереди каждого отряда шёл барабанщик. Ребята шагали по мостовой быстро, даже по сторонам не глядели, а на тротуарах было полно народу, прохожие останавливались, из подъездов выбегали люди. Все смотрели на ребят, а многие женщины плакали.
Рядом со мной стояла на тротуаре высокая седая старуха в чудном каком-то пенсне на золотой цепочке. Она вытирала слёзы клетчатым платком, а потом махала им — наверное, провожала кого-то.
— В Вологду едут! — рассказывала она. — В Вологду! У меня с ними внучка, девочка, едет. А из Вологды повезут ребят ещё дальше — в Сибирь, в Среднюю Азию. Говорят, это последний эшелон…
Я с тревогой посмотрел на заплаканное лицо старухи. Последний эшелон?
Старуха опять замахала платком. Мимо пёстрыми длинными рядами пробегали ребята. И все они — это я хорошо запомнил, — и мальчики и девочки, были в красных галстуках.
«Почему последний эшелон? — с тревогой думал я. — Не может быть… Неужели немцы и к Северной дороге подбираются? Говорили, что теперь одна Северная осталась…»
Когда последний отряд прошёл мимо подъезда, я долго глядел ребятам вслед. Потом повернулся и вошёл в подъезд. Поднялся до шестого этажа и остановился около квартиры Вовы Чучина. Он в нашем классе учился. Месяц назад Вова с отцовским заводом в Челябинск эвакуировался. Тогда увозили все заводы, чтобы фашистские бомбы не навредили им. Я нажал звонок. Послушал, как он трезвонит в пустой квартире… И зашагал к себе на восьмой.
«Да, — думал я, — пусть Вова Чучин поживёт с мамой и с отцом в Челябинске, пока мы тут фашистов бить будем… А я — другое дело».