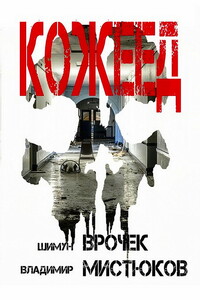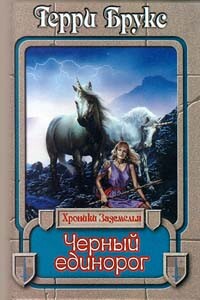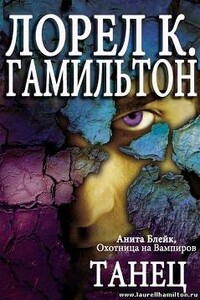Поди отвори дверь втихаря, даже если на замок и петли запузырить кондейку конопляного масла. Заманаешься пыль глотать. А кабы профурычил этот хитрый фокус, то гостей выдал бы расширяющийся просвет. Если в карцере темно, как у ниггера в кармане, то по коридору – спасибо тусклой хлипкой лампе в металлической оплетке – размазан полумрак. И разница в освещении густо расползается вместе с увеличивающейся щелью между дверью и косяком.
Да и как не засечь приход гостюшек дорогих, кады не отрываешь зеньки от двери. Когда всю ночь напролет только их родимых, только их сучар поганых и караулишь.
Он ждал гостей сидя на корточках возле противоположной двери стены. Ждал, хотя они визиток вперед себя не засылали. Они вообще хотели накрыть его дрыхнущим без задних ног, козлы. Потому и приперлись в самый смачный сон, часа в четыре утра (если он и ошибается, то на полчаса туда-сюда, не больше).
А, и взаправду, чего б харю не подавить? Шикарный расклад для спанья. Не карцер, а люкс в «Астории». Доведись в нем отсиживать, а не лютой смертушки дожидаться – разве б мы еще чего хотели, Сочи, а не хата. Деревянная шконка, от стены отстегнута, вода по стенам не сочится, не холоднее, чем на улице, ништяк.
Жальче всего, что отобрали курево. Да перец с табачком, перед смертью не накуришься. А отобрали-то не одно курево. Шмон провели показательный, хоть в ментовские учебники срисовывай.
Правда, насчет того, что отобрали все, – это они так думают. Есть и иные серьезные мнения.
Дверь отъехала до середины, замерла. В карцер стали одна за другой просачиваться фигуры, размазываясь кляксами вдоль стен, но от двери далеко не отгребая. Хорошо, падлы, ступают, по-росомашьи мягко. Сколько их? Пять или шесть. Будь он помоложе, не будь тело изношено, измочалено и изломано зонами от Таллинна до Магадана, еще бы посмотрели, чья одолеет. Но легкой поживы вам, сукам, и сейчас не перепадет.
Человек на корточках не шевелился. Рано еще. А те стоят, дают глазам освоиться. Скоро должны прочухать, что шконка пуста. Потом увидят и его.
Что ночка нарисуется последней, Климу стало понятно еще днем. Пьесу из Шекспира разыграли, как по нотам. Нелепая заводка вонючего шныря, который сработал под пьяный бзик, дескать, мозги от жорева закоротило. Шныря пришлось наказывать самому. А тот орал, будто баба при родах тройни. Вовремя вбежавшие вертухаи, приготовленный карцер, обстоятельный шмон. Обидно лишь за одно – не получится выяснить, кто эту музыку заказал.
Заметили. Двинулись. Слаженно и молча. Похоже, не особо удивившись, что их встречают с распростертыми объятиями и поздравительными телеграммами. Въезжали реально, с кем имеют дело.
Однако больше чем троим ширина хаты подойти к нему за раз не позволит. Клим поднес клешню ко рту, выплюнул в жменю половинку бритвенного лезвия. Распрямился, когда козлам до него оставалось два шага дохилять. Врубаясь, что через мгновение они с шага сорвутся в бросок и навалятся, он метнул себя им навстречу.
Ладонь мазнула по чужой глотке. Без вариантов: зажатая между пальцев стальная полоска сделала свое дело, распахнула кожу, как «молния» – ботиночки «Прощай, молодость». Дурик еще не прочухал, еще лезет вперед. Но дурик уже в минусе, пару секунд ему подергаться и боль проволокой опутает горло, а кровянка потечет по шее водой из крана.
Он уклонился от захвата первого нападающего, «поднырнул» под второго, выбросил руку с огрызком бритвы к чужой харе. Но с дрыгалкой у второго оказалось все путем. И не просто штымп ушел от лезвия, а сумел всадить кулак («да то, мля, гиря, а не кулак, или кастет у него?») в подреберье.
Держать удары Клим умел, приходилось. И хрена бы его завалили одним, хоть и пудовым хуком. Но достали и сзади. Не успел он отскочить, чтобы сберечь себя со спины, не смог развернуться. Возраст пожрал былую ловкость.
По голени въехал носопырь, сбивая на пол. Навалились остальные. Оседлали. Руку с бритвой прижали к бетону в несколько жадных пятерней. И вместе с гостями навалилась память. Вся ломаная соленая житуха букварем пролистнулась перед глазами. Где он был прав, где он был не прав, и как за это отвечал. И горше горького стало, что вот последнее дело не успелось. Самое благородное за жизнь дело – поставить неправедную тюрьму на правильные понятия. Теперь уж не он, теперь уж кто-то помоложе явится и зачеркнет здешнюю несправедливость.
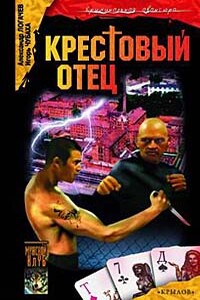


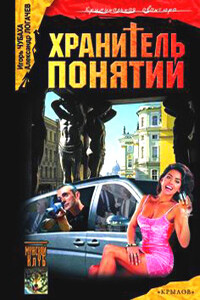


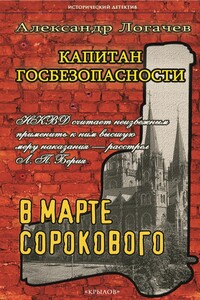

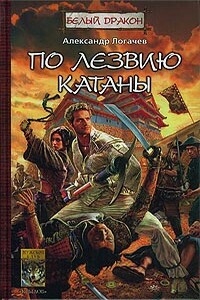

![Дом колдовства [сборник]](/uploads/books/images/b0/b034aaeeccc1379da6d7501134d6f29c00bbfbe2.jpg)