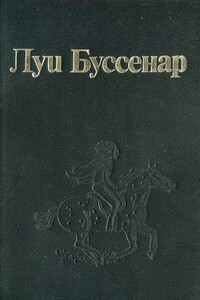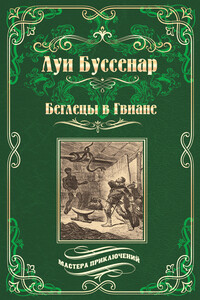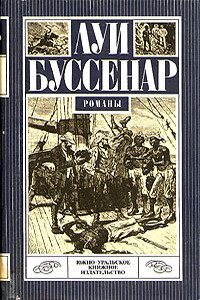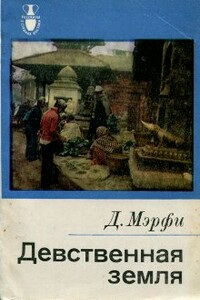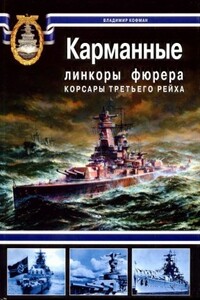Длинная пирога[1], вырезанная из ствола железного дерева, отчаливает от левого берега Марони, разворачивается, и Генипа — так зовут моего проводника-индейца — направляет ее, энергично работая веслом, в протоку шириною метра два.
Я устроился на своем походном сундучке и едва успеваю нагибать голову, чтобы уберечься от ударов темно-пурпурных[2] ветвей, низко свисающих над водой.
Целая туча встревоженных нашим появлением небольших разноцветных попугаев с громким щебетанием поднимается в небо.
Пирога плавно скользит по безымянному ручейку, впадающему в одну из самых больших рек Французской Гвианы.
По берегам, питаемые соками древнего плодородного гумуса[3], возвышаются гигантские деревья. Их стволы крепко обвиты лианами[4], образующими в вышине сплошные своды, непроницаемые для обжигающих лучей тропического солнца.
Здешний животный и растительный мир своим богатством и разнообразием может свести с ума любого натуралиста, а яркостью красок повергнуть в отчаяние любого живописца.
Тут есть все: лианы, ананасы и даже орхидеи[5], распутная красота которых только расцветает от жгучих укусов солнца и липких объятий влажного, нездорового воздуха. Вьющиеся растения карабкаются вверх по стволам деревьев и уютно устраиваются под мышками веток, лианы причудливо сплетаются друг с другом. Повсюду распускаются изумительные цветы.
Я не в силах придумать имя этому празднику жизни, но как хочется в восторге и в восхищении воспеть его!
Однако мой спутник со светло-кофейной кожей, курносым, лишенным растительности лицом и пристальным холодным взглядом раскосых глаз совершенно равнодушен к окружающему великолепию. Более того, восторги цивилизованного европейца по поводу каких-то цветов и трав кажутся ему странными, подозрительными и даже достойными сожаления.
* * *
Вот уже две недели Генипа[6] (кстати, имя это означает название какого-то дерева) знакомит меня со своим родным лесом, с саванной и речными протоками. Здесь я стал свидетелем фантастических природных феноменов[7], до которых так жадны путешественники со Старого Света.
Самого индейца мне рекомендовали знакомые голландские рудокопы, хвалившие его честность и исполнительность.
Каков будет наш сегодняшний маршрут, я еще не знаю. Заставить Генипу пуститься в объяснения — затея бессмысленная. За целый день он порой не произносит и десятка слов. И только вечером, после нескольких изрядных глотков тростниковой водки, милостиво удостаивает меня нескольких фраз на креольском наречии[8]. Но сия благосклонность еще не свидетельство нашей дружбы. Ума не приложу, как добиться расположения этого замкнутого и невозмутимого индейца.
Зато — замечу не без гордости — ко мне очень привязалась его собака — обладающее отличным нюхом странное маленькое создание с остренькой мордочкой и торчащими ушами, ловкое и хитрое как обезьяна.
Пирога движется по все сужающейся протоке, которая в конце концов превращается в настоящую крокодилью тропу.
Мы в тени. Но что за адская жара — как в бане или в разогретой теплице! О, этот ужас экваториальных болот — зловоние, духота, чудовищная влажность.
Цветы и листья, стволы и ветви словно истекают отвратительным потом. Не в силах бороться с этим кошмаром, я засыпаю.
Прошло три или четыре часа.
Вздрагиваю и просыпаюсь от характерного грудного оклика индейца:
— Посмотри!
Вокруг сказочный пейзаж. Пирога выплыла на простор огромного озера. Солнце в полной силе. Под его ослепительными лучами вода будто покрыта молочной дымкой; видно все озеро — от колышущихся зарослей кустарника у берегов до самого горизонта.
Все оно как бы в роскошном, пышном обрамлении из гладких и блестящих зеленых листьев и пурпурных цветов, над которыми этажами возвышаются гигантские деревья в гирляндах разноцветных лиан — они придают пейзажу удивительную законченность.
Да, картина поистине захватывает воображение!
Внезапно ее тихое очарование нарушила стая диких уток. Их всполошило наше появление — с невообразимым шумом, хлопая крыльями, они взмывают ввысь из ближайших кустов.
На ум приходит мысль об ужине, и я тянусь к ружью: какими сочными будут эти достойнейшие перепончатые, приготовленные на костре.