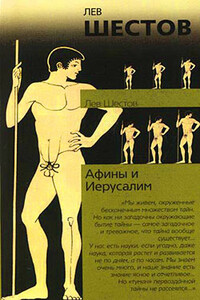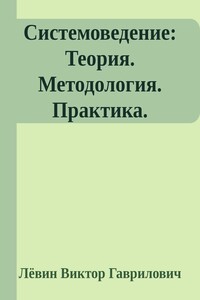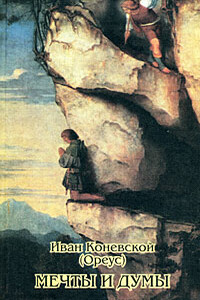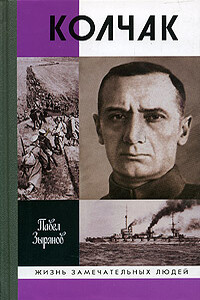Киргегард и Достоевский[1]
I
Вы, конечно, не ждете от меня, чтобы в течение одного часа, который предоставлен в мое распоряжение, я сколько-нибудь исчерпал сложную и трудную тему о творчестве Киргегарда[2] и Достоевского. Я потому ограничу свою задачу: я буду говорить лишь о том, как понимали Достоевский и Киргегард первородный грех, или - ибо это одно и то же - об умозрительной и откровенной истине. Но нужно вперед сказать, что за такое короткое время вряд ли удастся выяснить с желательной полнотой даже то, что они думали и рассказывали нам о падении человека. В лучшем случае удастся наметить - и то схематически, - почему первородный грех приковал к себе внимание этих двух замечательнейших мыслителей XIX столетия. К слову сказать, и у Ницше, который, по обычным представлениям, был так далек от библейских тем, проблема грехопадения является осью или стержнем всей его философской проблематики. Его главная, основная тема - Сократ, в котором он видит декадента, т. е. падшего человека по преимуществу. Причем падение Сократа он усматривает в том, в чем история - и в особенности история философии - находили всегда и нас поучали находить его величайшую заслугу; в его беспредельном доверии к разуму и добываемому разумом знанию. Когда читаешь размышления Ницше о Сократе, все время невольно вспоминаешь библейское сказание о запретном дереве и соблазнительные слова искусителя: будете знающими. Еще больше, чем Ницше, и еще настойчивее говорит нам о Сократе Киргегард. И это тем более поражает, что для Киргегарда Сократ самое замечательное явление в истории человечества до появления на горизонте Европы той таинственной книги, которая так и называется Книгой, т. е. Библии.
Грехопадение тревожило человеческую мысль с самых отдаленных времен. Все люди чувствовали, что в мире не все благополучно и даже очень неблагополучно: "Нечисто что-то в Датском королевстве", - говоря словами Шекспира, - и делали огромные и напряженнейшие усилия, чтобы выяснить, откуда пришло это неблагополучие. И нужно сейчас же сказать, что греческая философия, равно как и философия других народов, не исключая народов дальнего Востока, на поставленный так вопрос давала ответ, прямо противоположный тому, который мы находим в повествовании Книги Бытия. Один из первых великих греческих философов, Анаксимандр, в сохранившемся после него отрывке говорит: "Откуда пришло к отдельным существам их рождение, оттуда, по необходимости, приходит к ним и гибель. В установленное время они несут наказание и получают возмездие одно от другого за свое нечестие". Эта мысль Анаксимандра проходит через всю древнюю философию: появление единичных вещей, главным образом, конечно, живых существ и по преимуществу людей, рассматривается как нечестивое дерзновение, справедливым возмездием за которое является смерть и уничтожение их. Идея о γένεσις'е и φθορά (рождение и уничтожение) есть исходный пункт античной философии (она же, повторяю, неотвязно стояла пред основателями религий и философий дальнего Востока). Естественная мысль человека, во все времена и у всех народов, безвольно, точно заколдованная останавливалась пред роковой необходимостью, занесшей в мир страшный закон о смерти, неразрывно связанной с рождением человека, и об уничтожении, ждущем все, что появилось и появляется. В самом бытии человека мысль открывала что-то недолжное, порок, болезнь, грех и, соответственно этому, мудрость требовала преодоления в корне того греха, т. е. отречения от бытия, которое как имеющее начало осуждено на неизбежный конец. Греческий катарзис, очищение, имеет своим источником убеждение, что непосредственные данные сознания, свидетельствующие о неизбежной гибели всего рождающегося, открывают нам премирную, вечную, неизменную и навсегда непреодолимую истину. Действительное, настоящее бытие ( οντως ον )[3] нужно искать не у нас и не для нас, а там, где власть закона о рождении и уничтожении кончается, т. е. там, где нет и не бывает рождения, а потому нет и не бывает уничтожения. Отсюда и пошла умозрительная философия. Открывшийся умному зрению закон о неизбежной гибели всего возникающего и сотворенного представляется нам навеки присущим самому бытию: греческая философия в этом так же непоколебимо убеждена, как и мудрость индусов, а мы, которых отделяют от греков и индусов тысячелетия, так же неспособны вырваться из власти этой самоочевиднейшей истины, как и те, которые впервые ее обнаружили и показали нам.