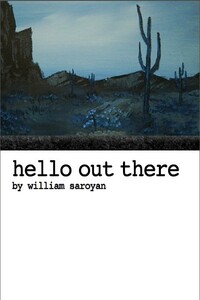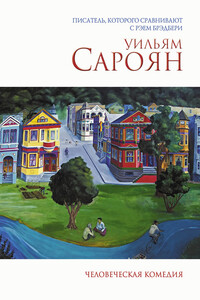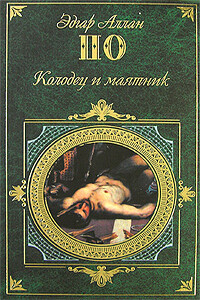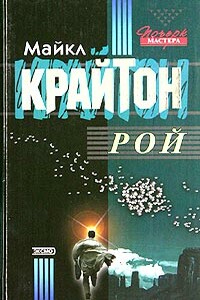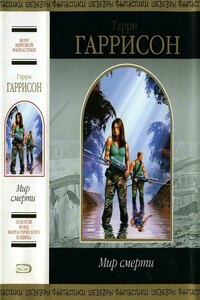Из центра нашего города можно было прошагать мили четыре или пять в любую сторону и наблюдать, как улицы превращаются в пустыню и луга. Здесь было много садов и виноградников, но больше всего – пустошей, а травы росли сухие и крепкие. На этой земле в безмолвии пустыни веками обитала всякая живность, водились змеи и рогатые жабы, луговые собачки и кролики, а в небе кружили ястребы и стояло раскаленное солнце. По всей нашей пустыне виднелись следы фургонов, каждый из которых прокладывал свою одинокую колею, и мы знали, что и в этом засушливом краю живут люди.
Отойдя на две мили от центра города, можно было ощутить одиночество запустения, затерянность этой земли, лежащей вдалеке от уюта человеческой мысли. Было здорово осознавать, что в нашей долине есть люди, которые постепенно заселяют эту пустыню, наполняя ее моментами своей жизни, мыслями, негромким говором и энергией. Стоя на окраине города, можно было почувствовать, что его улицы и жилища мы создали в тиши и одиночестве пустыни и что мы совершили дерзновенный поступок. Мы пришли на эту засушливую землю, у которой не было истории, обосновались на ней, построили дома и начали слагать легенду нашего труда. Мы рыли колодцы, прокладывали в сухой земле каналы, распахивали ее, сеяли и стояли посреди разбитого нами сада.
Наши деревья еще не выросли настолько большими, чтобы давать достаточно тени, и тогда мы посадили несколько пород деревьев, которые сажать не стоило, потому что они были слабы и ни за что бы не простояли век, но мы заложили отличное начало. У нас было немного кладбищ и совсем мало могил. Мы не похоронили в них великих людей, потому что не подарили их еще миру; мы были слишком заняты орошением пустыни, и на наш город еще не пала сень великого ума. Зато у нас была игровая площадка «Космос». Были школы, названные в честь Эмерсона, Готорна, Лоуэлла, Лонгфелло и Эдисона. Через наш город проходили две оживленные железнодорожные ветки. К нам всегда прибывали поезда из крупных городов Америки, и мы не чувствовали себя оторванными от внешнего мира. У нас выходили две газеты, был свой актовый зал, публичная библиотека, заполненная книгами на треть, и лекционный клуб. И всяческие, какие угодно, церкви, кроме церкви сциентистов. В каждом доме имелась Библия, а во многих – по четыре.
Или же кому-то могло показаться, что вот заложили мы этот город в пустыне, да все зря, что наша жизнь пуста и бесцветна, а мы сами – под стать тем кроликам, их современники. Или же у человека могло быть одно мнение утром, другое – вечером. Как бы там ни было, купол на здании суда был высок, имел какие положено очертания, но был уродлив и выглядел нелепо – что общего у купола с нашей пустыней и виноградниками? – он совсем не вязался с тем, что мы пытались делать в пустыне, и был всего лишь дешевым подражанием чему-то римскому или греческому. У нас был мэр, но он не был выдающейся личностью и не походил на мэра. Он был похож на фермера. Он и был фермером, но его избрали мэром. В нашем городе не было по-настоящему выдающихся личностей, но из всех нас вместе взятых могло бы получиться нечто выдающееся или близкое к тому. Наш мэр никогда не считал ниже своего достоинства поговорить с фермером-славянином из Фаулера, который едва владел английским. Он не заносился и иногда был не прочь напиться с приятелями, любил поболтать с друзьями о том, как рыть колодцы, подрезать виноградную лозу, чтобы получить хороший урожай, и вообще был славным малым. И потом ведь у нас должен был быть свой мэр, и кто-то же должен был им стать.
И все же в нашем предприятии было что-то мелкое и почти жалкое. Оно не было ни грандиозным, ни даже средней руки. В нем не было ничего хитроумного, научного или нечеловеческого, столь характерного для растущих городов. Никто из жителей не знал, что означает слово «эффективность», а самым пресным словечком в речах нашего мэра было – «прогресс». Но под «прогрессом» он, как и мы, подразумевал мощение улицы перед мэрией и приобретение городом «форда» для мэра. Нашим самым крупным коммерсантом был маленький человек по имени Кимбал, который любил расхаживать по своему колоссальному универмагу с остро отточенным карандашом за левым ухом и лично обслуживал посетителей, несмотря на два десятка работавших на него бдительных клерков. Я уверен, они бдили всю зиму, и если иногда им случалось вздремнуть в долгий летний полдень, то только потому, что в это время спал весь город и делать было нечего. Таково было всеобщее правило для города, и это придавало ему несколько любительский вид, как будто мы только и делаем, что ставим эксперименты, и не вполне уверены, заслуживаем ли мы большее право жить в пустыне, чем кролики и рогатые жабы, словно мы еще не поверили, что взялись за нечто действительно внушительное, что рано или поздно приведет к перевороту в мировой истории.