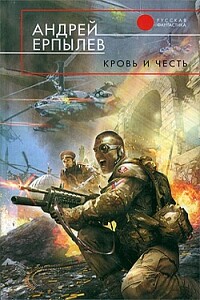Пуля громко щелкнула по валуну, осыпав Александра колючей каменной крошкой, и с хриплым жужжанием ушла куда-то вверх. Только после этого донесся гулкий винтовочный выстрел. Дремоту как рукой сняло.
«Бур»? — подумал Бежецкий, смахивая с приклада автомата бритвенно-острые осколки. — Нет, по звуку не походит. Скорее всего, трехлинейка снайперская. Может, даже наша…»
— Зашевелились голубчики, — проворчал Таманцев, невидимый Александру. — Даже часок вздремнуть не дали…
— А тебе бы только дрыхнуть, — раздалось с позиции, устроенной чуть дальше. — Не боись: если наши не прилетят — надремлешься вдоволь. С дыркой в башке.
— Отставить, — подал голос капитан Михайлов из своего «блиндажа»: даже раненный, он не переставал следить за дисциплиной своего разношерстного воинства. — Запрещаю паникерские разговоры.
«Да какое уж тут паникерство… — Бежецкий ногтем выковырнул из паза ствольной коробки каверзную каменную крошку и щелчком отправил ее в пропасть. — Не паникерство это, а констатация факта. Грустного, надо сказать, факта…»
Положение, в котором оказался отряд, как говорится, было хуже архиерейского.
От экспедиционной команды и экипажей обоих вертолетов уцелело всего двенадцать человек, две трети из которых — ранены. А из офицеров на ногах оставался лишь он — поручик Бежецкий. Капитан Михайлов способен лишь на пассивное руководство — травма позвоночника при неудачном десантировании из падающей машины практически полностью лишила его подвижности, поручик Ямщиков погиб при крушении вертолета, а прапорщик Ламберт — без сознания. И вряд ли в него возвратится без квалифицированной медицинской помощи, до которой сейчас так же близко, как до обратной стороны Луны.
— Как там с рацией, поручик?
Промолчать на поставленный вполне конкретно вопрос было невозможно, и Александр нехотя ответил:
— Вольноопределяющийся Голотько пытается что-нибудь сделать.
— Сразу же, как только получится наладить связь, сообщите мне, Александр Павлович.
— Так точно, господин капитан.
Саша не хотел разубеждать несчастного офицера, остававшегося в плену радужных иллюзий. А как иначе может быть после ударной дозы обезболивающего, когда, по словам бывалых людей, мыслить критически человек просто не способен? Реальность, данная нам в ощущениях, густо перемешанная с игрой воображения, — вот что такое сознание человека, одурманенного двойной дозой селкапина…
На самом деле вольноопределяющийся Голотько сейчас просто ковырялся, на дилетантский взгляд поручика, уцелевшей левой рукой в том месиве горелой пластмассы, ярких деталюшек и проводов, которое осталось от полевой радиостанции, снятой Таманцевым со спины радиста Прошкина, прошитого навылет из крупнокалиберного пулемета. Чертовы туземцы: если бы не они — все какая-то надежда оставалась бы. Например, ночью подобраться к разбитой машине, свинтить и притащить бортовую рацию сюда, на высотку, вызвать подмогу… И долгие часы до темноты жить этой надеждой. Теперь же этой спасительной ниточки, связывающей с Кабулом, читай — с далекой и могучей родиной, не было и в помине — сгорела она вместе с подожженным трассерами «бортом». И самое мерзкое, что, возможно, лишь ослепший Михайлов и «тяжелые», которым было совсем не до переживаний и раздумий, оставались в отношении данного факта в счастливом неведении.
— Что там, Голотько? — для очистки совести и успокоения капитана, окликнул Бежецкий «радиста». — Получится наладить связь?
— Связь? — ошалело вылупил на командира белесые, как у мороженого судака, глаза бывший студент. — Какую еще?… — начал он, но осекся, поскольку поручик, молча погрозил ему кулаком. — Что смогу — сделаю. Но нужно время.
Отвернувшись от Бежецкого, он неуклюже подгреб поближе культей правой руки, обмотанной густо пропитанными кровью бинтами, груду покореженных печатных плат и углубился в свое занятие, бормоча что-то неразборчивое под нос.
— Обещает в скором времени, — бодро доложил капитану Александр, предпочитая лучше быть «испорченным телефоном», чем омрачить, может быть, последние часы бравого пехотинца.