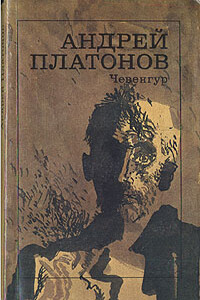Андрей Платонов
Государственный житель
Пожилой человек любил транспорт наравне с кооперативами и перспективой будущего строительства. Утром он закусывал вчерашней мелочью и выходил наблюдать и наслаждаться. Сначала он посещал вокзал, преимущественно товарные платформы прибытия грузов, и там был рад накоплению товаров. Паровоз, сопя гущей своих мирных сил, медленно осаживал вагоны, полные общественных веществ: бутылей с серной кислотой, бугров веревок, учрежденской клади и необозначенных мешков с чем-то полезным. Пожилой человек, по имени Петр Евсеевич Веретенников, был доволен, что их город снабжается, и шел на платформу отправления посмотреть, уходят ли оттуда поезда в даль Республики, где люди работают и ожидают грузов. Поезда уходили со сжатыми рессорами, — столько везли они необходимой тяжести. Это тоже удовлетворяло Петра Евсеевича, — тамошние люди, которым назначались товары, будут обеспечены.
Невдалеке от станции строился поселок жилищ. Петр Евсеевич ежедневно следил за ростом сооружений, потому что в теплоте их крова приютятся тысячи трудящихся семейств и в мире после их поселения станет честней и счастливей. Покидал строительство Петр Евсеевич уже растроганным человеком — от вида труда и материала. Все это заготовленное добро посредством усердия товарищеского труда вскоре обратится в прочный уют от вреда осенней и зимней погоды, чтобы самое содержание государства, в форме его населения, было цело и покойно.
На дальнейшем пути Петра Евсеевича находился небольшой, уже использованный сельской общественностью лес, лишь изредка обогащенный строевыми, хотя и ветшающими соснами. В межевой канаве того малого леса спал землемер; он был еще не старый, но изжитый, видимо, ослабевший от землеустройства человек. Рот его отворился в изнеможении сна, и жизненный тревожный воздух смоляной сосны входил в глубину тела землемера и оздоровлял его там, чтобы тело вновь было способно к землеустройству пахарей хлеба. Человек отдыхал и наполнялся счастьем попутного покоя; его инструменты — теодолит и мерная лента — лежали в траве, их спешно обследовали муравьи и сухой паучок, проживающий от скупости всегда единолично. Петр Евсеевич нарвал травы среди ее канавного скопища, оформил ту траву в некую мякоть и подложил ее под спящую голову землеустроителя, осторожно побеспокоив его, чтоб получилось удобство. Землемер не проснулся, — он лишь простонал что-то, как жалобная сирота, и вновь опустился в сон. Но отдыхать на мягкой траве ему уже было лучше. Он глубже поспит и точнее измерит землю, — с этим чувством своего полезного участия Петр Евсеевич пошел к следующим делам.
Лес быстро прекращался, и земля из-под деревьев переходила в овражные ущербы и в еще несверстанную чересполосицу ржаных наделов. А за рожью жили простые деревни, и над ними — воздух из жуткого пространства, Петр Евсеевич считал и воздух благом, — оттуда поставлялось дыхание на всю площадь государства. Однако безветренные дни его беспокоили: крестьянам нечем молоть зерно, и над городом застаивается зараженный воздух, ухудшая санитарное условие. Но свое беспокойство Петр Евсеевич терпел не в качестве страдания, а в качестве заботливой нужды, занимающей своим смыслом всю душу и делающей поэтому неощутимой собственную тяжесть жизни. Сейчас Петр Евсеевич несколько волновался за паровоз, который с резкой задыхающейся отсечкой пара, доходившей до напряженных чувств Петра Евсеевича, взволакивал какие-то грубые грузы на подъем. Петр Евсеевич остановился и с сочувствием помощи вообразил мучение машины, гнетущей вперед и на гору косность осадистого веса.
— Лишь бы что не лопнуло на сцепках, — прошептал Петр Евсеевич, сжимая зубы меж зудящих десен. — И лишь бы огню хватило, — ведь он там воду жжет! Пусть потерпит, теперь недалеко осталось…
Паровоз со скрежетом бандажей пробуксовывал подъем, но не сдавался влипающему в рельсы составу. Вдруг паровоз тревожно и часто загудел, прося сквозного прохода: очевидно, был закрыт семафор; машинист боялся, что, остановившись, он затем не возьмет поезд в упор подъема.