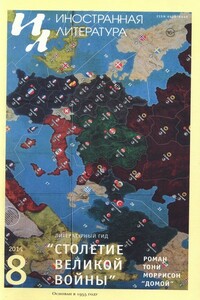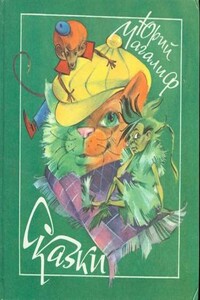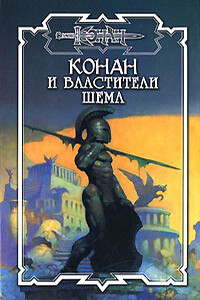В то утро, памятное утро 29 июля 1914 года, для меня, как обычно, открыли окно и квартиру залило волной теплого воздуха и солнца. Все дремало.
Внезапно прямо за окнами пробежала звенящая, пугающая дрожь. Она была тихой, но такой жуткой, что воздух содрогнулся, сон улетучился и все вокруг напряглось в ожидании. Это звенели телеграфные провода.
Необычайной, страшной, похоже, была весть, которую они передавали этой стонущей дрожью — словно молнию, от столба к столбу. Мне давно уже была знакома их манера переговариваться, ведь я годами рассылал свои мечты по их чутким, весь мир опутывающим нитям. Но никогда еще не слышал я такого звука. И никогда еще на заданный мною вопрос не получал такого резкого, неожиданного ответа:
— Не мешать!
Это противоречило всем принятым в мире вещей обычаям. Что происходит? Я в изумлении ждал. Вдруг с улицы издалека донесся крик. Крик, который не стихал, но, быстро приближаясь, разрастался, растягивался, множился.
Я напряженно вслушивался. Смотрел во все глаза. Под окнами уже бежали разносчики газет с экстренными выпусками. Они неслись гурьбой, запыхавшиеся, охрипшие, наперебой выкрикивая невероятное известие.
Первое слово, иностранное, яростное, влетело в комнату, отразилось от стен, взметнуло солнечную пыль и с криком полетело дальше — приводить в смятение город.
— Мобилизация!
Но вслед за ним ворвалось второе — простое, страшное и такое огромное, что заполнило собою комнату, залило всю улицу и охватило целый свет.
— Война!
Не помню, как долго никто из нас не осмеливался прервать молчания. Разносчики газет давно уже были далеко, а вслед за ними летело по улицам испуганное бормотание громом пробужденного города.
Я поглядел на комнату. Несколько часов переменили ее до неузнаваемости. Каникулярного оцепенения как не бывало. Все настороженное, торжественное, строгое. По старинному оружию, развешанному на стенах, пробегают резкие, стремительные блики. И — тишина. Но до чего же непохожая на прежнюю, будничную!
Мы ждем. Кто выскажется первым? Наконец-то! В старомодном дедовском письменном столе вздохнул самый дальний, позабытый уже тайник. Глубоко-глубоко, словно человек, пробудившийся от тяжелого, крепкого сна.
— Снова война!
Ах, так он помнит? Знает? Расскажет?
— Знаю. Знаю. Тут у меня лежал крест «За заслуги» времен наполеоновских войн — уланский крест за Сомосьерру. Я хранил приказы Национального правительства и белую кокарду, окровавленную под Гроховом. И до сих пор прячу пачку пожелтевших писем, тайно пронесенных лесами в шестьдесят третьем…[3] Этого мало?
— Это не наша война! — резко проскрипел старый, красного дерева шкаф. — Ты напомнил мне о том, что когда-то тут висело, — о повстанческих кафтанах. Потом уже здесь хранили только обычную одежду. Порою чужие мундиры. Нет больше наших мундиров и нет больше наших войн.
— Но еще есть мы! — отозвалась яркой вспышкой старая уланская сабля.
— И уже есть мы! — задиристо тявкнуло новенькое пехотное ружьецо, радость и гордость Стася.
Теперь я знал. Знал все, хоть не знал ничего. Ни какая это война, ни где, ни с кем. Но не зря прошли уроки истории, идейные споры, не зря я много раз слышал, как горячо бились детские сердца, — во мне вдруг возникла твердая уверенность. И я изумился, когда то же самое громко высказал висевший среди оружия старый и почерневший рыцарский медальон.
— Всякая война — наша, если можно сражаться за Польшу.
— Вы о чем? Вы о чем? — тщетно допытывалась японская ваза. Никто ей не отвечал. Только пожали плечами две французские фарфоровые статуэтки. Все предметы погрузились в размышления.
Я воспрял духом, потрясенный и счастливый. По мне будто забегали электрические искры. Начинается новая жизнь! Каждой, даже самой маленькой своей частицей я чувствовал одно — чувствовал безошибочно. Великое завтра — пришло. <…>