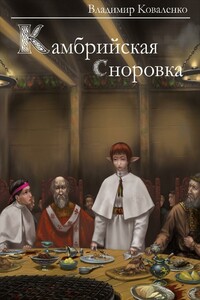Асар Эппель
Чужой тогда в пейзаже
На Ярославском шоссе, тогда еще не обсаженном увечными и криворукими теперь тополями, ожидалась осень. Было пусто и сухо. По ту сторону асфальтового тракта с оловянной колеи удирал одинокий трамвай, торопясь пропасть в неподвижном пейзажике. Увы, без разбору грохоча, никуда не пропадешь, а обратиться вдалеке в шевелящийся воздух у трамвайчика из-за обозримой недлинности рельсовой стези не получалось.
Он же шел по велодорожке, бывшей, если идти от Первой Мещанской к Селу Алексеевскому, по правую руку сказанного ярославского пути и в годы, когда сооружалась ВСХВ, затеянной как новое, велосипедное, двухколесное и сверкающее спицами.
Велосипедов, правда, у людей пока еще не очень имелось, а спицами и вовсе ничего не сверкало, хотя с войны кое-кто кое-что и припер, поэтому вниманию нашему могут пойти разве что три машины, связанные не столько с нашей судьбой, сколько имевшие свой жребий тоже.
Первой назовем английский бицикл некоего N - ехидного юноши из барака Нефтеэкспорта, вывезенный ихней семьей из настоящей Англии: барачные жильцы поголовно служили за границей, а посему остались теперь только жилицами, то есть женами плюс заведенными на чужой стороне детьми, проклятыми на всю жизнь из-за нерусского в паспорте места рождения и расстрелянных отцов, то бишь помянутых жильцов. Живой родитель остался только у одной семьи, но с ним по причине его нестерпимого высокомерия связываться не стоило, что, в общем, неважно, поскольку у них и был английский велосипед.
Как воспеть это чудо? Боже мой, да хоть как - хоть эпиталамой, ибо для восторга нашего довольно и того, что у гоночного британского велосипеда были для легкости д е р е в я н н ы е обода, которым полагалось катиться по чему-то гуттаперчевому, а коль скоро наши кротовины и рытвины вкупе с расползающейся по заулкам сухой ботвой оказывались сюда непригодны, изумительный снаряд хранился только для показа гостям.
О втором велосипеде покамест сказать нечего - он еще недоделан, хотя его своими руками делает один добрый, хотя поврежденный в уме человек, много лет уже как раздумавший отбрасывать тень и потому с утра хоронящийся в сарае, но это же всего июнь, июль, август, а в остальной год, где она, тень? Зато сарайный химик и спицы производит, и в гальваническом корыте их никелирует, а когда сварку для алюминия изобретут, он из и л ю м и н я, чтоб не деревянные, и обода согнет.
Третий велосипед - мой, то есть наш. Его с первых получек купил мой брат, самый хороший из людей, с чем мешало согласиться остальным самолюбие, а теперь моего брата больше нет, и состарившегося нашего велосипедика, висевшего до последнего в маленькой прихожей, тоже нет, и нашей с мамой и братом квартиры, в которой эта прихожая, нет - ничего нет, а есть только ночная мысль, что ничего больше нету и никого больше нет. И непонятно, что делать дальше - выть, скорей всего.
Велосипед наш до конца так и был цвета слоновой кости, каковой нам, тоже вожделевшим английской жизни, безупречно навели на черный харьковский колер двое беспрозванных мастеров. Как умудрились они в те нехитрые времена таково положить краску? Неужто пульверизатором? И как мы их таких вообще нашли на окрестных задворках? Ведь никуда - даже на спицы - кистью не заехало, и фонарь был гладко покрыт, и задний фонарик, и обода. И на раме благословенные эти красильщики по собственному понятию отбили уместные золотые полоски, чтобы хмурый наш "Харьков" стал сливочный с золотом.
Мы же старательно проваривали цепь в автоле, подколачивали клинья, чтоб не скрипели педали, запросто заклеивали продырявленные волчцами тогдашних проселков камеры, прикупили со временем счетчик километров - этакую коробочку с циферками; и надо было видеть, как в сатиновых шароварах с целлулоидными защипами цвета слоновой кости, выпрошенными у все равно не ездившего на англичанине ехидного N, мы с номером под седлом (тогда милиция по справке с места жительства выдавала велосипедные номера) наворачивали эти километры, катая на раме уже тяжелобедрых еще девочек или уже девушек, пыхтя и налегая на них в горку, а они показывали, что этого не надо, и совсем пригибались к рулю - несговорчивые дурочки, хотя больше в их жизнях никто не испытывал большего влечения к слободским ихним лопаткам и саврасым волоскам на шее. Со временем они поняли это, да что толку.