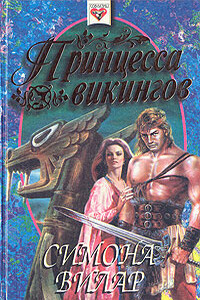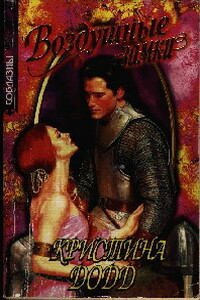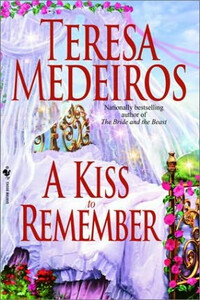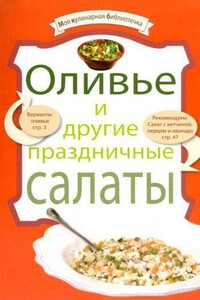Англия, 1279 год
Дверь слегка приоткрылась, и в комнату неслышно проскользнул юноша. Он замедлил шаги, ощутив знакомый аромат розмарина. О, этот запах вызывал у него странные, противоречивые чувства. Хотелось раствориться в нем без остатка и одновременно, отпрянув, бежать отсюда сломя голову. Он закрыл на мгновение глаза, подчинившись первому своему желанию. Аромат окутал его сладким облаком, как и накануне вечером, когда его мачеха танцевала с ним. Ее черные, цвета воронова крыла, локоны скользнули тогда по его щеке, ошеломив нежностью прикосновения. Замерев, он окончательно потерял способность повторять за нею сложные танцевальные па, которым она с таким очаровательным терпением обучала его. Он вздохнул и открыл глаза, глубину которых окаймляли темные ресницы.
Конечно, ему не следовало появляться здесь. Нотному письму он мог обучаться за столом отца, правилам этикета — в большом зале. Что привело его сюда, в будуар мачехи? Сейчас именно она заботилась о нем, в отсутствие отца. Он должен был вернуться из похода через две недели. «Так что же я здесь делаю?» — подумал юноша и тут же нашел ответ. Он пришел всего лишь поблагодарить мачеху за ее доброту и внимание к нему.
За открытым окном слышался лязг копий, сопровождаемый взрывами грубого смеха. Внутренний двор внизу, где забавлялись, обмениваясь ударами, оруженосцы, казалось, принадлежал иному, бесконечно далекому миру.
Пустота залитых солнцем покоев вызвала в нем одновременно досаду и облегчение. С осторожностью и грацией, удивительными для четырнадцатилетнего юноши, он огляделся.
За раздвинутыми занавесями дамасского шелка, такого же глубокого голубого цвета, что и ее глаза, он увидел смятую постель. Нырнув под резной навес алькова, он дрожащей рукой дотронулся до вмятины на подушке, где недавно покоилась ее голова. Он готов был стоять тут целую вечность, но вдруг где-то сзади раздался тихий звук. Он резко повернулся, ударившись головой о резную стойку, и обвел комнату расширенными виноватыми глазами. И тут же досадливо нахмурился.
Он совсем забыл, что здесь живет еще и ребенок. Его сводная сестра стояла в дубовой колыбельке, выпутавшись из свивальника. Она была еще кроха, но вполне уже могла обходиться без пеленания. Солнечный свет нежно касался ее золотистых локонов. Ее губы обиженно вздрагивали, а в круглых голубых глазках стояли слезы. Но она не плакала. Она, казалось, была настолько покорной и терпеливой, что могла сколько угодно ждать, чтобы кто-либо, оказавшись рядом, взял ее на руки. Юноше показалось, что колыбелька опасно наклонилась, и он поспешил выхватить из нее малышку.
Она оказалась неожиданно плотной и тяжелой. Невозможно было себе представить, что это милое, но неуклюжее существо — потомство его гибкой и грациозной мачехи. Юноша неловко держал девочку на одной руке, как будто побаиваясь ее. Что же с ней теперь делать? Зато она прекрасно знала, что ей делать с ним. Тихо лепеча, она положила свою головку ему на грудь. В ее кулачке мгновенно оказалась прядь его темных волос. Она решительно дернула прядь, как будто затем, чтобы напомнить ему о своем присутствии.
Совершенно неожиданно слезы защипали ему глаза. Он не помнил, чтобы когда-либо плакал. Он не плакал даже в день смерти своей матери. И потом он тоже не плакал. Ощущая комок в горле, он прижался лицом к нежно пахнущим локонам девочки. Она была такой чистой, а он… разве его чувства к ее матери можно назвать чистыми? Держа в своих руках это воплощение невинности, он ощущал себя чудовищем.
Дверь в комнату распахнулась. В покои стремительно вошла его мачеха. Глаза ее странно потемнели при виде золотистой головки девочки, прижавшейся к темной голове юноши.
Она, досадливо поморщившись, схватила малышку.
— Этот глупый ребенок, наверное, докучал тебе? Прости меня. Я не представляю, как она умудрилась выпутаться из пеленок.
Он удивленно смотрел, как она вновь плотно стягивает свивальником тельце ребенка. Девочка не плакала. Глазки ее смотрели не на мать. Они были обращены на него.
— Разве ей не пора уже бегать? — тихо спросил он.