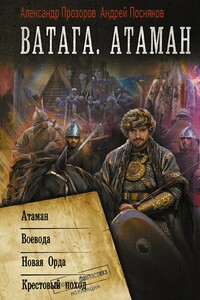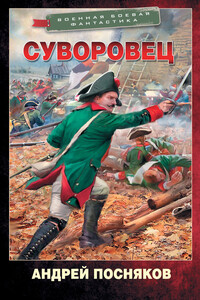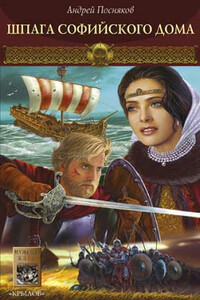Жизнь нашу можно удобно сравнивать со своенравной рекою, на поверхности которой плавает челн…
Козьма Прутков
— Подсекай, подсекай, Саня!
— Да рано еще.
— Подсекай, говорю, сорвется!
Рывок. Взлетела удочка, почти невидимая в стылом утреннем тумане, оп-па!
Рыба — крупная по нынешним временам форель, — издевательски махнув хвостом, сорвалась, упала обратно в воду.
— Эх, Николай, Николай! — Саня, высокий мускулистый мужик лет тридцати, опустив удочку, разочарованно махнул рукой и сплюнул. — Говорил же тебе — рано!
Его напарник, лет на десять-пятнадцать старше, уже лысеющий, с вислыми, чуть сивоватыми усами и ничем не примечательным лицом, философски хмыкнул:
— Всему свое время, Саня. Ничего, наловим еще — денек-то только начинается. Эвон, заря-то какая!
За лесом, за туманной гладью озера, хмурясь, медленно вставало алое сентябрьское солнце. Туман быстро редел, прячась по берегам; в камышах и под ивами уже закрякали утки, застучал прямо над головами дятел, а невдалеке, у болотца, пару раз крикнула выпь.
Саша покосился на Николая и поспешно спрятал усмешку: знал, что напарника давно еще, лет тому двадцать назад, местные деревенские мужики прозвали Вальдшнепом, и прозвище свое он получил в точно такой же ситуации. Раздавив пару жбанов, встречали с удочками первую зорьку, и тоже закричала выпь, а Николай, тогда совсем еще молодой парень, все доказывал — не выпь, мол, а вальдшнеп. Вот и стал Вальдшнепом на всю оставшуюся жизнь. Прозвище свое, однако, Николай не любил и обижался даже на намеки, а уж тем более на смех. Бывший совхозный тракторист, Весников Николай Федорович, когда-то работавший еще и в лесопункте, на трелевочнике, вообще-то по жизни был очень обидчивым, над чем деревенские обычно посмеивались, да так, что иногда и до драк доходило. Правда, все это осталось уже далеко в прошлом. Из деревенских-то иных уж нет, а те далече… В лихие девяностые кто спился, кого убили, а кто и так, сам — либо пьяным вместе с трактором утоп, либо повесился. Не много уж их и осталось, мужиков-то, совсем не много, да и деревни давно стали не те, превратившись по сути своей в дачные поселки, куда народ только летом и приезжал. Как выражался Саша, объективный процесс, называется «урбанизация».
Ой, как не нравилось всем коренным, деревенским, это гнусное слово! А уж Николаю Вальдшнепу в особенности. Очень не любил он нынешние времена и власть нынешнюю вороватую не уважал нисколечко. Впрочем, а кто на селе ее уважает-то? Да что тут говорить! В деревнях испокон веку так — либо злобствовать, соседям завидуя, либо самому выпендриться, смотрите, мол, какой я! Какая у меня машина, какой дом, забор, и уж собачища — зверь лютый! Вальдшнеп-то как раз был из таких и больше завидовал, чем выпендривался, потому как нечем было хвастаться. Себе на уме, он и раньше особо жилы не рвал, а в нынешние времена и вовсе кое-как с хлебушка на квас перебивался. Женат никогда не был, детишек, даже внебрачных, не завел, всю жизнь промыкался один, бобылем. Правда, и зла никому не сделал. Так, завидовал да ругался — что ж, у каждого свой характер. Не очень удачлив был, это правда, зато все стежки-дорожки в ближайшей округе знал как свои пять пальцев. Александр этим и пользовался время от времени, а в последние месяца три — так почти каждую неделю. На что имелись причины весьма даже веские и не веселые, а, откровенно сказать, грустные, и даже очень.
Сашу Николай Федорович не то чтобы уважал, но… признавал, что ли. Вальдшнепу не зазорно было пройтись с ним по лесам, жбан раскатать, погутарить, однако до приятельских отношений дело не доходило. Так, знакомцами считались. Федорыч вообще ненавидел новых русских, а Саша-то, как ни крути, был из таких — три пилорамы, столовая, магазин, лодочная станция… Ну, пилорамы, допустим, принадлежали супружнице, но вот все остальное Александр сам раскрутил: и дешевую столовую — так она и называлась, «Столовая», — восстановил в первоначальном виде, как в семидесятых, и магазин — мини-супермаркет — близ федеральной трассы выстроил, и вот лодочную станцию открыл — для туристов, да и местные, у кого своей лодки не было, приходили. Кстати, жителям окрестных деревень, добрым знакомым, Саша лодки давал просто так, бесплатно. Красивые были лодочки — синие, желтые, изумрудно-зеленые… Александр сперва подумывал даже дать каждой собственное имя — «Беда» там, «Черная каракатица», «Амикус», «Голубой дельфин», «Тремелус», последние три названия были из той, прошлой жизни, в которой молодой человек обрел самое, пожалуй, главное — Катю.