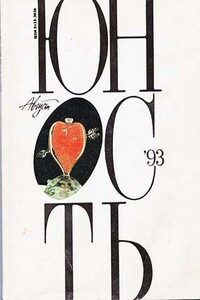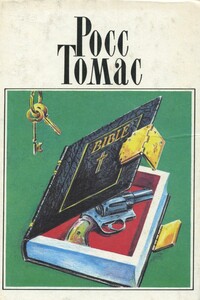Роман
В понедельник двадцать третьего февраля тысяча девятьсот восемьдесят первого года в Кремле открывали очередной исторический двадцать шестой съезд КПСС.
В понедельник утром я и мой друг Сэшеа, с которым мы еще в институте учились в одной группе, сидели в прокуренной нише на лестничной площадке черного хода нашего учреждения и, попыхивая сигаретами, обозревали из окна индустриальный пейзаж.
— А тебе не кажется, что наша жизнь потеряла смысл? — как бы между прочим спросил меня Сэшеа.
— А тебе? — спросил я.
— Я-то в этом уверен, — кривовато ухмыльнулся он.
— Может быть, — покладисто согласился я, — может быть…
— И тебе — все равно? — мрачнея, поинтересовался мой друг, пристально следя за моей реакцией.
Я неторопливо загасил окурок о внутреннюю сторону подоконника и, отправив его в запорошенную пеплом эмалированную плевательницу, признался, что как-то не думал об этом.
— Нет, — не отставал Сэшеа, — я вижу, что тебе все равно. И это очень в твоем духе.
— Почему это — в моем духе?
— Потому что ты всегда полон оптимизма.
— Почему это я всегда полон оптимизма?
— Поверь мне… Я очень хорошо изучил тебя за годы нашего знакомства. Должен тебе сказать, ты часто бываешь полон самого дурацкого оптимизма.
— Может быть, — уклончиво кивнул я, — может быть… Я тоже достаточно хорошо изучил моего друга.
— Да, — с нажимом сказал Сэшеа. — И жаль, что ты не видишь себя со стороны. Если бы ты посмотрел на себя со стороны, ты бы не обрадовался.
— Пожалуй, — согласился я. Сэшеа задумался.
— Хочешь, я скажу тебе одну вещь? — спросил он, немного погодя.
— Скажи.
— Это будет довольно жестокая вещь, — предупредил он.
— Давай, выкладывай.
— Но ты не должен обижаться на меня, старик. Все равно, кроме меня, тебе этого никто не скажет.
— Заранее тебе благодарен, старик.
— Не нужно сейчас шутить, хорошо? — попросил Сэшеа.
Он даже положил мне на плечо руку, чтобы я не шутил. Я вздохнул. Он еще помолчал, а потом сообщил:
— Ты очень ОПУСТИЛСЯ за последнее время — вот что.
Такие слова меня удивили, а он, видя мое недоумение, поспешил продолжить:
— Да-да, ты очень опустился. Ты ничего не замечаешь. Мне даже кажется, что ты как-то поглупел… Или отупел…
— Ты сам отупел.
— Не обижайся. Я предупреждал, что это будет жестокая пещь.
— Всё? — спросил я.
— Пока все, старик, — снова усмехнулся Сэшеа, ожидая, что я еще что-то скажу или спрошу, но я молчал и смотрел в окно на производственные строения, тесно громоздившиеся друг на друга как бы для спаривания. Потом я стал рассматривать похабные рисунки, которыми сотрудники исцарапали весь подоконник.
— Это и неудивительно, — со вздохом продолжал Сэшеа, видя, что я молчу, — если каждый день приходить сюда, дышать этим гнилым воздухом. В конце концов сделаешься таким же уродом, как и все…
— По-твоему, все наши — уроды?
— А, по-твоему, нет?.. Все как на подбор. И Эмилия, и Сидор, и Оленька. А выдающийся урод среди них — это, конечно, Фюрер! Или, по-твоему, он достойный человек?
— В общем, урод…
Согласиться было нетрудно. «Фюрером» мы звали нашего завлаба. Впрочем, у меня с Фюрером в отличие от Сэшеа отношения были нормальные, а Сэшеа он беззлобно, хотя и методично доставал из-за того, в частности, что тот чересчур болезненно реагировал на любое замечание.
— И другие не лучше! — заявил Сэшеа.
— Обычные люди.
— Это одно и то же!
— Что же их — презирать?
— А что я ими, бедными, восхищаться должен?.. Я и тобой восхищаться не собираюсь. Нравится тебе это или не нравится.
— Что на тебя нашло? — удивился я.
— Да надоело! — проворчал Сэшеа.
— Ладно, — посоветовал я, — наплюй.
Сэшеа плюнул в плевательницу, но промахнулся.
— Может, пойдем, поработаем? — предложил я.
— Беги! — ядовито усмехнулся он. — Работай. Я недоуменно пожал плечами.
— А у тебя нет такого чувства, что у нас в жизни уже не будет никаких событий? — хмуро спросил Сэшеа. — Такая во всем ограниченность, что хоть на стену лезь.
— А что делать…
— Может, у тебя какие-то свои планы?
— Три года, хочешь не хочешь, нужно оттрубить по распределению. Полтора года отработали, полтора осталось. Там посмотрим…