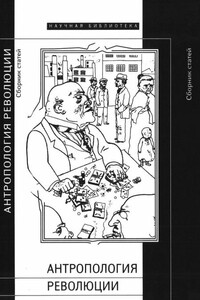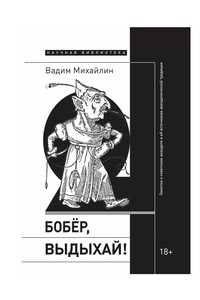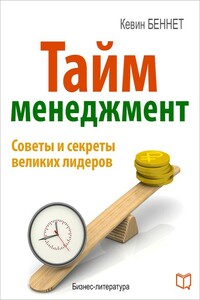От составителей:
Ускользающий агент революции
Слово «революция» в последние годы стало модным — оно используется в рекламе, политической риторике, названиях кинофильмов. Однако в подавляющем большинстве случаев тот референт, к которому отсылает современное словоупотребление (будь то слоган рекламной кампании осенних распродаж «Октябрьская революция цен» или название кинофильма «Матрица 3: революции»), — это революция политическая. Особо конкретные и пристрастные коннотации это понятие приобрело в России, где оно отсылает не просто к историко-политическому дискурсу, но и к совершенно определенным событиям давней или недавней истории (от Февральской революции 1917 года до «оранжевой революции» в Украине). Вероятно, одна из причин этой особой эмоциональности восприятия состоит в том, что «итоги революционного века для России до сих пор не подведены» (из редакционной статьи в журнале «Новое литературное обозрение»)[1].
Политическое значение слова «революция» заслоняет — повторим, особенно в России, но и в современном мире в целом — все остальные значения, столь существенные для XX века: о научной, или эстетической, или сексуальной, или протяженной во времени социальной революции сегодня за пределами соответствующих узкопрофессиональных сообществ говорят редко. Эта односторонность выглядит тем более странной, что, на взгляд из сегодняшнего дня, политические революции обнаруживают по сравнению с другими типами радикальных трансформаций наименьший модернизационный эффект: безусловно, «локальные» революции имеют свои, иногда немалые, издержки, но они в любом случае прямо или косвенно открывают новые пространства для свободного самоопределения человека — политическая же революция одновременно претендует на максимальное открытие и полную блокировку таких пространств и часто оборачивается огромными человеческими жертвами.
С социальной точки зрения революции политические, сексуальные, эстетические и научные — явления крайне «разнокалиберные», охватывающие от миллионов до нескольких десятков людей и имеющие протяженность от нескольких суток до полутора столетий[2]. Однако и общее название для этих разнопорядковых явлений устоялось не случайно: существует перспектива, которая позволяет дать им одно и то же имя, эта перспектива — антропологическая. Именно субъекты действия, участники и согласные с ними наблюдатели, определяют то или иное событие как революционную перемену; они же — и их ближайшие потомки — способствуют тому, чтобы событие под этим именем и вошло в анналы истории[3]. Но ведь в любую революцию вовлечены — и с необходимостью являются ее акторами — не только вольные, но и невольные участники, не только энтузиасты и сознательные противники, но и те, кто вынужден приспосабливаться к последствиям, а таких, как правило, — большинство.
Антропологическая точка зрения необходима для понимания революции не только как генерализующего концепта, но и как важного для новейшей истории социально-политического феномена, который отсчитывает свою жизнь с парижских событий мая 1968 года, — условно его можно назвать психологической революцией или «революцией сознания»; вероятно, к этому же классу исторических явлений относятся «цветные революции» в некоторых постсоветских республиках. В ходе трансформации этого типа не меняется политический строй государства, а часто не происходит даже принципиального изменения правящих элит, однако участники события переживают его как революцию, и последствия «переучреждения» властных и иных общественных институтов, происходящего в ходе «психологической революции», тоже могут оказаться радикально инновативными[4].
Для того чтобы обсудить, на каких методологических основаниях могут быть сопоставлены революции различного типа, редакция журнала «Новое литературное обозрение» в марте 2008 года провела свою ежегодную конференцию — Большие Банные чтения[5]; ее тема была сформулирована следующим образом: «„Революция, данная нам в ощущениях“: антропологические аспекты социальных и культурных трансформаций»